У престола Бога, в утро райских нег, все мы видеть станем красный, красный снег!
Философия концентрирует в себе известный способ мышления, известную логику мышления и проясняет её для самого мыслящего человека. Поэтому с философией не сталкивается лишь тот, кто вообще не мыслит, вообще не думает над тем, что делает и он сам, и все окружающие его – и далекие и близкие люди.
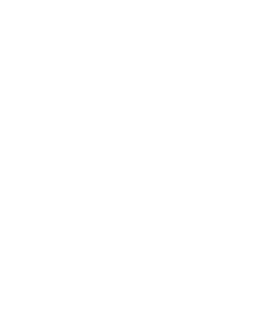
Эвальд Ильенков
"Философия и культура"
I
О материализме и идеализме
Маркс не так уж неправ, когда говорит, что идеология не имеет истории; не имеет её, являясь частным проявлением идеологии, и философия. Споры об Ильенкове, разгоревшиеся на почве безымянной заметки В. Тутубалина, как нельзя лучше отражают сущность текущего момента не в отдельной "истории" философии, но в истории России. Философия позднего капитализма наследовала у советской её трибунальский душок, но не наследовала её величия. Та была великой и ужасной, эта - пустой и безобразной.
Формальный момент спора – является ли Ильенков идеалистом, маскирующимся под материалиста, или действительным материалистом. Личность, впрочем, Ильенкова оказалась в прицеле споров не случайно, о чём ещё придётся сказать ближе к концу. Вопрос действительно нешуточный – признание идеалистом, имей участники споров отношение к государственной власти, имела бы серьёзные последствия для сделавшейся "идеалистической" стороны. В контексте споров понятия идеализма и материализма чётко окрашены - первый сливается с ложным, плохим, второй объявляется хорошим. Разумеется, приятнее быть хорошим, чем плохим.
Формальный момент спора – является ли Ильенков идеалистом, маскирующимся под материалиста, или действительным материалистом. Личность, впрочем, Ильенкова оказалась в прицеле споров не случайно, о чём ещё придётся сказать ближе к концу. Вопрос действительно нешуточный – признание идеалистом, имей участники споров отношение к государственной власти, имела бы серьёзные последствия для сделавшейся "идеалистической" стороны. В контексте споров понятия идеализма и материализма чётко окрашены - первый сливается с ложным, плохим, второй объявляется хорошим. Разумеется, приятнее быть хорошим, чем плохим.
Но в этой погоне за "хорошестью" "материалисты" рискуют забыть о погоне за правильностью, утратить саму суть собственного материализма.
Следует сказать, что использование этих терминов, "материализма и идеализма", уже есть показатель тех категорий, которыми мыслит человек. Материализм и идеализм - это не вечные определения; в современном смысле они целиком являются продуктом эпохи Просвещения, приложил руку к возникновению их не кто-нибудь, а сам Джон Локк, во взглядах которого выразилась суть капиталистической Идеологии, мышления капиталистической эпохи; окончательно же противопоставил идеализм и материализм Фихте. Впрочем, в историческом разрезе разграничение понятия материализма и идеализма были действительно полезны: второй парил где-то в потустороннем мире, на деле поднимаясь лишь на облака мира посюстороннего, первый же – пытался более или менее прочно опереться на реальный мир, мир наличного бытия, мир сущего. В этот период разграничение материализма и идеализма было более чем полезно – в борьбе с церковниками и их иезуитскими философами, феодальной Идеологией отделение одного от другого позволяло положить важный исторический рубеж в развитии человеческой мысли. Однако сама родословная этих понятий должна была бы заставить тех, кто активно прибегает к ней, задуматься о тех опасностях, которые кроются в парадигме "идеализм-материализм".
Проблему эту заметил ещё Маркс. Не зря к слову, имени "материализм" должно было присовокупиться слово "диалектика" – не материализм и диалектика как отдельные словечки, не диалектический материализм как словосочетание, но диалектический материализм как понятие; без любой из сторон этого единства понятие утрачивает свою сущность, перестаёт быть вполне марксистским. Проблему, которую поставил ещё Маркс, осознал и Ленин: "Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм" [1]. Третий тезис о Фейербахе звучит ещё парадоксальнее: "...это [материалистическое] учение забывает, что обстоятельства изменяются именно с людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан" [2]. Да, силён тот материализм, из которого напрочь выброшена идея историзма, идея развития! Итак, ни Маркс, ни даже Ленин в этом смысле – осторожнее, гегелевское головокружение! – не являлись материалистами, то есть "голыми" материалистами. Маркс и Ленин были материалистами диалектическими...
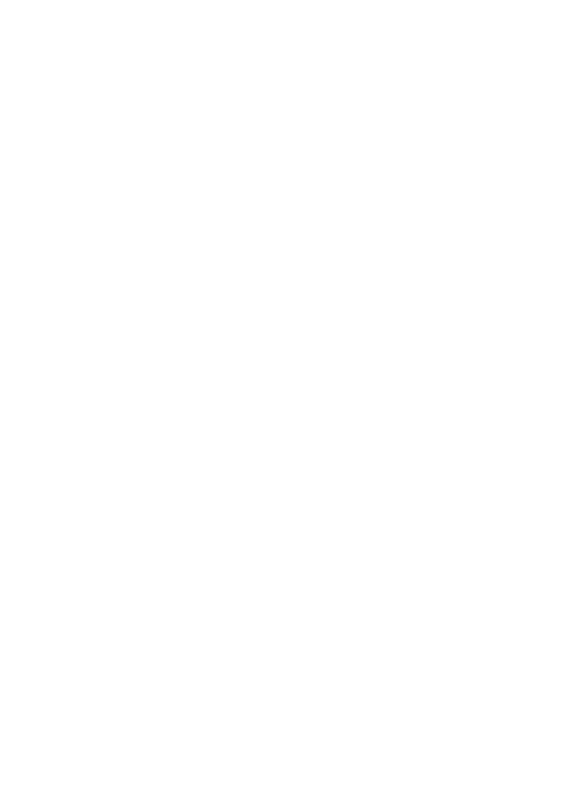
Отец философии практики ерунды не скажет
Философии остаётся только подсчитывать размеры того ущерба, который нанесла парадигма "материализм-идеализм" мышлению. Кому не известна старая байка про "материализм" Аристотеля, "материализм и идеализм" в классической философии греков? Поэтому когда В. Тутубалин пишет, что о проблеме материализма и идеализма первыми задумались позитивисты второй волны, он стреляет в ногу или себе, или своему марксизму, потому что первым отмежевался от "материализма вообще" не кто иной, как Карл Маркс.
Действительно, философы от буржуазного мира тоже почувствовали неладное, но не когда-то, а в момент глубокого кризиса капитализма, совпавшего – о чудо – с полномасштабным кризисом буржуазной науки (1865 – 1925).
То было время Спенсера и, затем, Дюркгейма – в социологии, Тарда и Лебона – в "антропологии", Бём-Баверка и Менгера – в экономике, Фюстеля де Куланжа и Эрнеста Лависса – в истории, Фробениуса и Ратцеля – в этнологии, Вюрцбургской школы Кюльпе* и Аха – в психологии, Риккерта, Либмана (по его "Канту и эпигонам" условно датировано начало кризиса), Виндельбанда – в философии. Махистам, или гештальт-психологам в науке о поведении, принадлежит якобы та "заслуга", что они эту проблему увидели, "поставили проблему". "Разрешена" эта проблема была в духе нейтрального монизма, "эмпириомонизма", когда материальное и сознательное были заменены третьим, их единством. Вопреки "материалистической" критике, махизм не отрицал материи – отрицание материи значит утверждение идеального. Авенариус и Мах, по их собственной мысли, а в России Богданов, не отрицали материю, а утверждали нечто третье, альтернативное, иное. Это "третье", к чему будут сводимы и идеальное, и материальное, однако, в сущности не было названо, положено. "Выход" махистов был рефлектированным, существовал у них в голове, а не на практике: утверждая о сведении и материи, и идеального к третьему, махисты не разрешали проблемы, а говорили – там, в этом третьем, будет её разрешение. "Поставив" проблему, махизм нашёл выход из неё только в своей голове, что не имело никакого применения в практике; поэтому справедливы замечания тех материалистов, которые судят махистов за "деконструкцию" рабочих философских понятий. Однако при должном рассмотрении окажется, что махисты не только не нашли сущий в действительности выход, – постановка проблемы также не принадлежит им. Проблема двух сторон, тождества моментов, целого, была поставлена отнюдь не эмпириокритицизмом: в современном виде она ведёт своё начало от философии Гегеля [3], с куда большим числом оговорок – Спинозы с его идеей "мыслящего тела" в противовес учению о двух субстанциях Декарта.
Я не зря так долго останавливался на кризисе европейской науки и философии, фальстарте махизма и истоках логического монизма в капиталистической культуре. "Критики" Ильенкова приводят фразу, где тот пишет: махисты в своей борьбе с философией Маркса стремились рассечь диалектическое (живое, что суть полные синонимы**) единство "онтологии" (сущего, бытия) и "гносеологии" (логики, сознания), а затем противопоставить их друг другу. В таком случае собственно весь материализм сводится к биологизму, физикализму, а материалистическое понимание сознания - к тому примитивному учению, которое в психологии называлось психофизиологическим (или психофизическим) параллелизмом***. Действительно, в таком понимании, где отсутствует представление о диалектическом единстве идей Человека и его деятельного бытия, материализм оказывается редуцированным до абстрактного, плохонького подобия уже помянутого сегодня Локка. Поэтому Тутубалин в чём-то прав: Ильенков действительно здесь прост, пусть и ломает голову паре-тройке "материалистов" своим объяснением того, что значит не осознанное самими махистами рассечение онтологии и гносеологии (Тутубалин тут же бросается в бой, чтобы доказать, что никакими онтологией и гносеологией махисты не занимались!). Только надо бы добавить, что настолько же Ильенков и прав, насколько прост. Не как абстрактный материалист, но как философ, стоящий на позициях диалектического материализма. До крайности простое и в то же время истинное суждение Эвальда Васильевича о несчастных махистах Тутубалин толкует с позиции цели, чтобы показать, как "скачущий между идеализмом и материализмом" Ильенков пытается протащить идеализм в материалистический раёк. Не мне судить, какими целями задавался покойный Эвальд Васильевич, но с ним на пару в модели наших пигмеев принялся скакать и отец философии практики: "Если в развитой буржуазной системе каждое экономическое отношение предполагает другое ... и если, таким образом, каждое полагаемое (jedes Gesetze) есть одновременно предполагаемое (Voraussetzung) [а лучше перевести: каждое положенное служит предпосылкой иного положенного – А. Л.], то это отношение имеет место в любой [!!! – А. Л.] органической [дохохотался Тутубалин над "живым единством"... – А. Л.] системе" (Карл Маркс) [4].
Ни Марксу, ни Ильенкову не приходится "скакать" между абстрактными "материализмом" и "идеализмом" – оба стоят на твёрдой почве диалектического материализма.
И неужели понятия идеализма и материализма неприменимы? Применимы, но в очень ограниченном ключе. В сущности, идеалистической является любая философская система, основания которой находятся по ту сторону бытия, вне его. Идеалистическая система "эвакуирует" отдельные аспекты бытия из него самого, создаёт новый мир, универсум идей, монад, восприятия отдельного человека (Беркли), нуса, Логоса, Бога. Классический пример идеалистической системы – неоплатонизм и христианство или их синтез с победой последнего (Августин) или первого (Иларий Пиктавийский), где основанием "монизма" является не что иное, как потусторонний Бог-Логос, Единое. Итак, та философия по праву считается идеалистической, которая своим основанием имеет потусторонность, мистифицированную и увековеченную в своём всесилии Идею. В этом смысле уже философия Гегеля не является до конца идеалистической; Ильенков же здесь твёрдо стоит на почве последовательного диалектического материализма, основанием его философии является посюстороннее, материя. За пределами показанного разграничения "идеализм" превращается в пошлую обзывалку, философствующей формой слова "дурак".
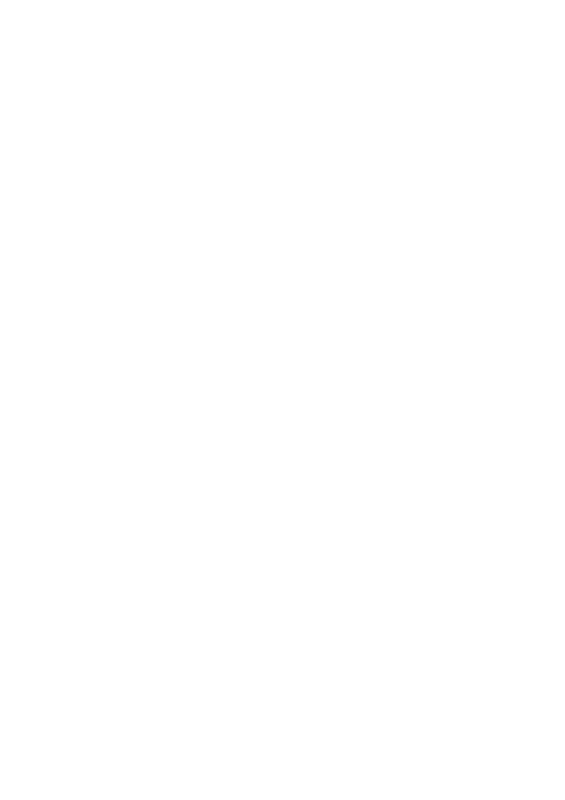
Эвальд Васильевич нахмурился - неприятно, когда на тебя вешают ярлыки
II
Мертва материя, мертва идеальность
(к постановке проблемы)
(к постановке проблемы)
Схоластический спор "материалистов" ведётся вокруг отношения материи и мышления. Мышление – это атрибут, качество, то есть некоторое неотъемлемое, всеобщее, необходимое свойство, или "всего лишь" модус (ещё хуже - модификация)? Обе стороны исходят в сущности из ложных посылок. Для первой, "спинозистской" точки зрения, рецептированной через Гегеля Ильенковым, мышление "прикреплено" к материи. Что это значит? Материя здесь является внеисторическим нечто, вечным, фактически сливается с бытием; собственно и мышление, таким образом, приобретает объективный, внеисторический характер. На вечную, всеобъемлющую материю, таким образом, "накладывается" мышление. Мышление в таком изображении отделяется от человеческого, как и материя становится чем-то вечным, всеобъемлющим, вне-Истории-сущим. Но надо прояснить, что при таком рассмотрении человеческое: это не отдельное, субъективное переживание, как пытались показать "материалисты" – человек здесь неотделим от Человека. Иначе говоря, отдельный человек может переживать какие угодно отношения с областью мышления, но непосредственно соотносятся именно Человек вообще, человеческое общество как целое, и объективная, вне-истории-сущая материя. "Атрибутивную" точку зрения волнует не "гносеологический Робинзон"****, не отдельный человек в его движении от жизни к смерти, его импульсах, его беспокойном бытии, а Человек как целое, человеческое общество в его, повторю, отношении к объективному мышлению. Это очень сильная позиция по сравнению с представлением Дубровского-Тутубалина о мышлении как субъективном восприятии действительности, и здесь имеется два существенных основания:
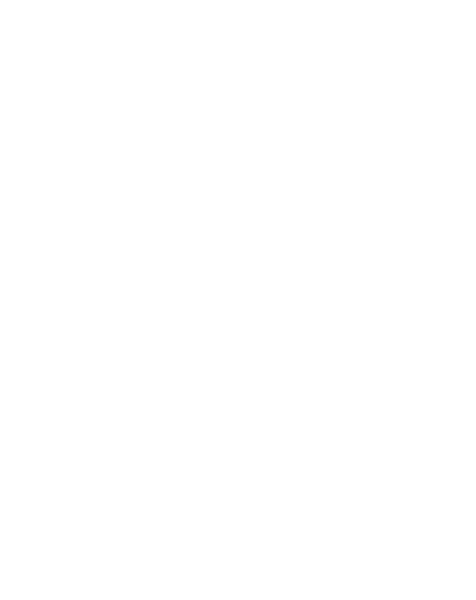
Нельзя выйти за пределы мышления, не перестав быть человеком
Никакое восприятие не осуществляется вне посредства языка, образующего автономную от материи реальность: "Одно и то же – мышление и то, о чём мысль, ибо без сущего, о котором она высказана, тебе не найти мышления" (Парменид). Древним грекам в начале своего философского движения удалось задеть ряд тех моментов, которые были в будущем поглощены, а вернее отрезаны от философского мышления платонизмом. Гипотеза о том, что мысль и сущее есть одно и то же – односторонна, не вполне диалектико-материалистична, но подчёркивает важный аспект языка: он образует автономную реальность, реальность человеческого мышления. Эвальд Васильевич считал, что с этой реальностью человек "должен считаться как с чем-то вполне независимым от его произвола [!]..."; это не вполне точное определение. Надо заметить, что человек в принципе не имеет произвола вне общественного сознания, которое суть не только отдельные термины, имена (железо и сталь, кровь и пот), но и понятия (честь и благо, класс и собственность), категории мышления. В метафоре Ильенкова выходит, что человек находится в неком наполненном вязкой жидкостью пузыре, из которого не в силах вырваться, хотя производит по своему произволу какие-то движения.
Если быть последовательным диалектическим материалистом, то надо сказать, что здесь человек не находится (!) в пузыре, а растворяется в нём, сам является частью целого, мыслит категориями этого целого и за пределы их выйти не может в принципе, не перестав быть человеком.
Это нисколько не отменяет свободы выбора, она рождена самой положенностью бытия, но человеческая система развивается по своим, вне этой иллюзии произвола сущим законам и, более того, сурово диктует категории мышления, в которых действует человек. От фатализма последовательный диалектический материализм, рассматривающий категории мышления в их становлении, в истории, в развитии, отличается тем, что если спинозистский фатализм оканчивается констатацией "Человек бессилен", то диалектический материализм постулирует: "Человек силён, но лишь в своей свободе как осознанной внутри целого, внутри Истории"*****. Марксизм является единственной Теорией (в понимании Альтюссера), способной подвергать себя критическому анализу; человек является единственным известным нам сущим, способным подвергать критическому анализу своё бытие; мышление есть единственная форма бытия, способная критиковать самое себя, критиковать собственные понятия и категории.
Точка зрения, согласно которой человек познаёт действительность вне посредства общественного сознания, а "из самих фактов", "конкретно", вообще не имеет никакого отношения к диалектическому материализму. Это позиция Фейербаха, где знание конкретно тогда, когда человек смотрит, вживую воспринимает конкретный объект; конкретность как синоним непосредственного. Но может ли подобная позиция, представление о конкретном познании как о непосредственном созерцании чего-либо, не то чтобы претендовать на сродство с диалектическим материализмом, но хотя бы не впасть в логическое заблуждение, будучи последовательной во всём?
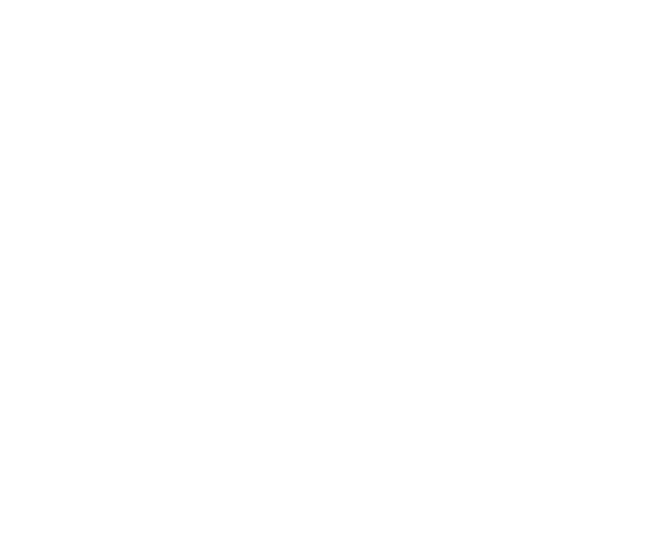
Конечно, нет. Такой эмпирист утверждает, что он "исходит из самих фактов", непосредственно, конкретно обращается к исследованию предмета, не обременённый какими-то теориями, идеологиями. Но в своём последовательном "исхождении из фактов" он как минимум должен был бы отказаться от языка, потому что язык для него абстрактен. Называя некоторое имя, я не придаю непосредственность денотату, тому, на что я указываю – максимум, вызываю к жизни некоторую в кантовском смысле схему. Впрочем, хорошо: эмпирист презрел собственную непосредственность уже тем, что обратился к понятиям языка, собирая "для обобщения" встреченные им предметы в копилку терминов (собаки и овцы, слоны и крокодилы, дома и дороги). Но следует ли представлять себе, что мышление человека состоит из голых слов? Как тогда, этот вопрос задал ещё Ильенков, объяснить существование несводимых к материальным денотатам слова "честь", "долг", "субстанция", "материя", "дух", "сказуемое", "подлежащее"? Нет, мышление, запечатленное в языке, образует не "мешок с картошкой", не абстрактное "множество" слов, а целокупное, значит структурированное единство. Наличные вариации каждых слов вариативны, но категории мышления, понятия как организующие "клеточки" мышления, формы, в которые заливается смысл находятся в сложном единстве, структурной связи. Понимая мышление таким образом, следует сказать, что позитивист или эмпирист, пускай и одевающийся в одежду диалектического материализма, не отрицает Теории, а не задумываясь, имплицитно применяет наиболее дурные, наиболее идеологизированные формы мышления.
Холоп, утверждающий, что он "вне политики", в своей повседневной жизни кажет себя как самый политически пристрастный субъект, как раб этой самой идеологии.
Мышление, таким образом, является не субъективным переживанием отдельного гносеологического Робинзона, а относится ко всей человеческой системе в целом, отражает закономерности её развития и составляет не фон исторической драмы, а её сущность. Вместо убогого "чайника Рассела" лучше было бы ввести термин "радиоприёмник Ильенкова" – красочный пример конкретности познания. Подступая к радиоприёмнику, эмпирист – нарушая, как уже показано выше, основоположение своей теории и обобщая в "абстрактном" языке "конкретные" продукты ощущений – должен был бы забыть о том, что предмет, находящийся перед ним называется "радиоприёмник". Сам Эвальд Васильевич этого момента не проговаривает, и тем не менее: эмпирист, подступая к радиоприёмнику, видит не "радиоприёмник" – в "абстрактном" слове уже содержится намёк, не исходящий "напрямую из фактов"! – а лакового цвета коробку с металлическими антеннами. Можно даже пощупать его, запечатлев в мнемотическом следе ощущение радиоприёмника, можно его разобрать на части, полизать, понюхать, посмотреть с левого ракурса или с правого. Но каким должен быть итог такого "конкретного" познания? Дескриптивное, описательное знание. Действительно, полезное, действительно, в определённой степени важное – если не задумываться о том, на что можно было потратить время, вместо того чтобы лизать радиоприёмник..., – но как можно воспользоваться этим знанием? Гегель в связи с этим замечал: "Это большая заслуга – познакомиться с эмпирическими числами природы, например, с расстояниями планет друг от друга; но бесконечно большая заслуга – заставить исчезнуть эмпирические определённые количества и возвести их во всеобщую форму количественных определений так, чтобы они стали моментами закона или меры" [5]. Иными словами, эмпирическое, полученное через опыт, ощущение знание хорошо тогда, когда поставлено в систему, когда у неё есть мера, когда она подчинена закону; полезно вскрыть эмпирические данные, но куда важнее вскрыть законы, реальные определения. Только в рамках этих законов можно всерьёз распоряжаться эмпирическим знанием – без него это не знание, а факты, вернее, нагромождение фактов, всё тот же "мешок картошки", самодостаточный для-себя мир.
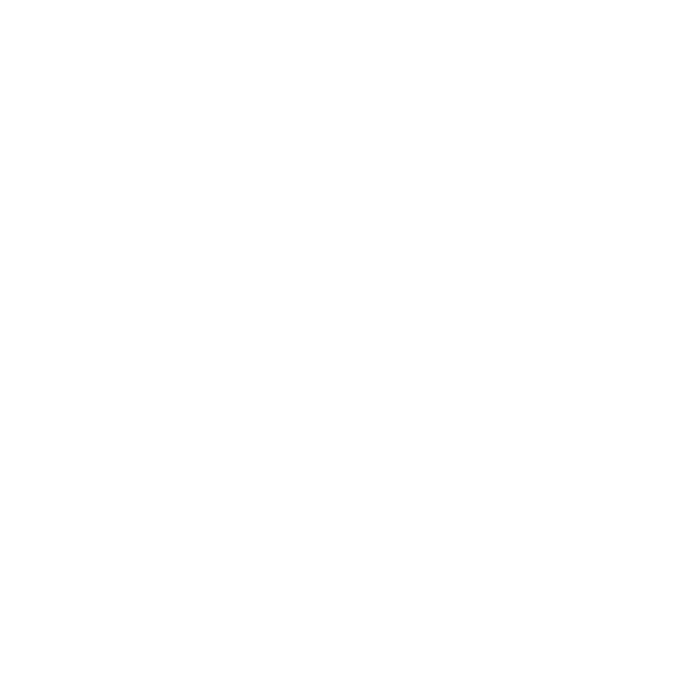
Коробка лакового цвета с металлическими антеннами
Возвращаясь к метафоре радиоприёмника, или, в понимании эмпириста, коробки лакового цвета с металлическими антеннами. Мы уже поняли, что "конкретное" познание его ничего не дало эмпиристу, оказалось абстрактным. Однако, если бы заместо того чтобы лизать радиоприёмник, он обратился к "абстрактному языку", "абстрактному" учебнику по радиотехнике, то получил куда большее представление о предмете своего познания. Кроме проблемы обществом опосредованного познания здесь встаёт ещё один момент. Радиоприёмник не зря называют радиоприёмником – это не лаковая коробка, не это есть сущность его. Эмпиристы объявляли сущностью предмета его "специфическое в общем": мочка уха, шутил Гегель, является отличительным качеством человека от всех млекопитающих; но не это является его сутью. Сутью человека, существенным моментом всего его бытия, является не мягкая мочка уха, а его осознанный труд. Могут возразить: Моцарт и Чайковский не занимались трудом! Должны ли мы тогда выписать их из рода человеческого или отказаться от своего определения?
Нет, не должны. Потому что и Моцарт, и Чайковский находились внутри человеческой системы, питались продуктами труда, жили в продуктах труда (домах), в них были похоронены (гробах). Сущностью человеческого общества вообще является, таким образом, постоянное воспроизводство им на каждом этапе своего развития материальных условий для существования. Именно поэтому человек – это существо трудящееся (а, значит, и думающее, потому что труд есть деятельность, а деятельность всегда коллективна; одинокий дровосек рубит дрова топором, сделанном мастером из соседней деревни; опосредованно мастер участвует в процессе труда дровосека), а не поющее, ходящее, дышащее или бегающее. Так же и радиоприёмник является радиоприёмником не потому, что кроме лакового цвета – полы тоже бывают лакового цвета – у него есть антенна. Вещи получают свои имена не за "специфические отличия в общем", а за свою суть – радиоприёмник является таковым, потому что служит приёму радиоволн.
Если завтра хозяин радиоприёмника решит покрасить его в белый цвет, он от этого радиоприёмником быть не перестанет, как не перестанет быть ощипанная курица курицей, а жертвующий милостыню капиталист – эксплуататором.
И последний момент "радиоприёмника Ильенкова". Разобранный радиоприёмник перестаёт быть радиоприёмником. Радиоприёмник – эта мысль является ключевым моментом диалектико-материалистической философии – имеет своим основанием собственные детали, но не сводится к ним. Распиленный на отдельные части радиоприёмник утрачивает свойства радиоприёмника, перестаёт быть таковым. Эту мысль важно задержать в памяти не только на протяжении всего дальнейшего рассуждения, но и на всю жизнь.
Есть у имени, правда, другой щекотливый момент, который Ильенковым не был проговорен. Понятие и имя являются не только конституирующими моментами языка, мышления, но и ограничивают его. Прикрепить "значок" к какому-то слову значит поместить его внутрь своей реальности. Но значит ли знакомство со словом "революция 1917 года" конкретное знание о том, что обозначается этим именем?.. Слово не только конституирует значение, но и создаёт барьер для познания в виде иллюзии понимания. "Зная" слово, человек, как ему кажется, "знает" и объект – портрет Маркса знаком каждому советскому гражданину, но в густой ли бороде заключено знание о Марксе. Слово "Маркс" создает иллюзию знания о Марксе как конкретном, он остаётся непознанным, будучи отмеченным. А с другой стороны, и непосредственный опыт, переживание, могут сделать знание, как ни парадоксально, более абстрактным. Встреча с группой нетрезвых молодых людей из Чечни может оставить очень неприятные впечатления на всю жизнь, к вульгарной форме имени "чеченец" "прикрепится" это оставшееся в памяти впечатление; то, что общая психология называет "постэмоциональными состояниями". И вместо того, чтобы достичь реальной общности всех народов, выраженной в Коммуне, человек будет искать причины своих бед в том, кто потревожил рутинный ход его жизни. С другой стороны, и понятию, теории свойственны похожего рода изменения. Так, на раннем этапе развития древнегреческой философии, в философии "тёмного" Гераклита и Парменида можно найти проблему реальности языка, проблему диалектического тождества (куда более сложного, чем просто "инь и ян"!), проблему предела и т.д. Многие же проблемы ранней философии в дальнейшем были "отрезаны", канализированы в философии Платона и Аристотеля, создавших в разной степени законченности философские системы. Или система Рикардо, которая содержала в себе продуктивное зерно – определение труда как источника всякой стоимости, – была напрочь уничтожена в системах Ф. Бастиа и Дж. Мак-Куллоха, которого Маркс поделом именовал не иначе, как "глупый Мак". Обе формы этого движения концепта, "отрезания" продуктивных идей в начале или "разложение" их в конце, в сущности исходят из одного источника – невозможности преодолеть противоречия. Да и чего уж говорить, человечество в целом на определённых этапах своего развития могло заявить: "Mundus senescit!" (лат. "Мир стареет!"), – когда предыдущие времена действительно были лучше настоящего. Впрочем, мне ли рассказывать об этом людям постсоветской эпохи…
Кроме того, язык последователен, "протяжёнен", и это является его родовым пороком. Для того, чтобы выразить некоторую спонтанно возникшую, сложную мысль, её необходимо выразить в последовательно идущих друг за другом, связанных друг с другом словах. Такая, последовательная, постепенная форма восприятия мысли, так ещё и обременённого определённым коридором толкований каждой отдельной фразы, как нельзя вредит схватыванию мысли как целого. То, что Клаузевиц называл coup d'œil, способностью оценить местность для предполагаемой битвы враз, "схватить" суть в целом, сталкивается с серьёзным препятствием в виде языка, который в-себе есть вещь строго последовательная.
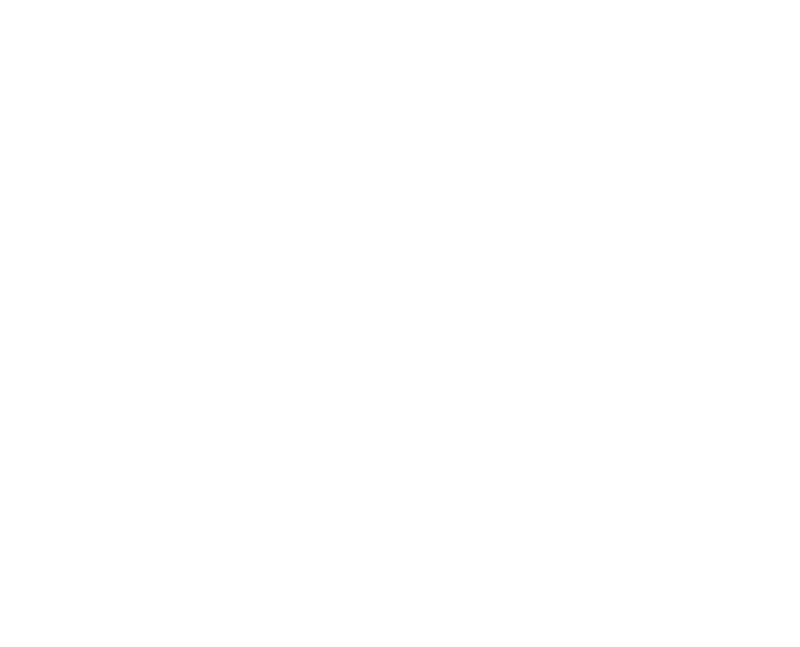
Не зря так часто пытаются изобразить взгляды того или иного философа в какой-нибудь пространственной модели, и само моделирование не зря призвано открывать те свойства предмета, которые не вскрываются человеком за пределами языка. Не зря ценится человеческое качество понимать другого "с полуслова", когда понимание без слов не только подчёркивает особую близость двух людей, но и когда мысль действительно может быть схвачена в её полноте без слов, в отсылке, когда слова лишь мешают, "захломляют" чистую мысль.
Не только к проблеме "мёртвого имени" нельзя подступиться, объясняя её внутри оппозиции материя-мышление. Более того, сам по себе язык как инструмент, а лучше модус мышления оказывается не универсальным для всех времён мостом между материей и человеком. Здесь мы видим, что если язык объективен, то значения в нём весьма субъективны, "привязаны" к контексту сознания отдельного общества, отдельного индивида. Эта проблема, проблема "мёртвости" имени, "эмоциональной ткани", проблема отягчающих обстоятельств последовательности языка, его непространственности сама уже подталкивает нас или к углублению в проблемы самого языка, его отношении к мышлению и т.п., то есть к дрейфу в сторону плохонького подобия аналитической школы, или к более живой, эвристически ценной мысли, что нечто между мёртвой материей и мёртвым именем есть - нечто третье, которое оживляет два предыдущих понятия, конституирует, утверждает их диалектическое единство.
III
Мышление как результат материи
Но перед тем как перейти к проблеме "третьего", соединившего мёртвое имя и мёртвую материю, следовало бы вернуться к той проблеме, с которой я начал, а именно обратиться к проблеме мышления и материи. В споре столкнулись две точки зрения, представления о том, что мышление есть необязательная, частная форма проявления материи, появившаяся в результате развития материи; и представления о том, что мышление является неотъемлемой частью материи вообще. Не зря пришлось остановиться так долго на последней позиции, позиции Эвальда Ильенкова. Эта точка зрения, повторюсь, сильна вот чем: мышление в ней объективно так же, как и материя, и в своём монизме напоминает – сравнение сугубо из педагогических целей! – христианский Логос, в особенности "цветочки" Оригена. Действительно, мышление в таком случае, по отношению к единичному сознанию, единичному даже обществу, наделяется теми же качествами, что и материя – оно объективно, повторюсь снова, вне-Истории-сущее. Вечны законы Архимеда, вечна истина – тут изголодавшийся по истине эпигон Ильенкова Серков не выдерживает и кричит: "Есть истина! Есть!!!" – как гносеологическая категория, категория мышления. В таком случае, путь человека предстаёт как путь раскрытия этого мышления-материи: "Вижу ли я без сознания или вовсе ничего не вижу – одно и то же. Только осознанное зрение есть действительное зрение и действительность зрения", – неандерталец, говорит Ильенков, продолжая эту мысль Фейербаха, "видит" куда меньше, чем способен "увидеть", запечатлеть в своём сознании современный человек. Возникает нечто – язык, представления о реальности, мораль, культура, – что "не может быть сведено к простой сумме "психических состояний отдельных лиц" [6]. Мышление, что безусловно верно, не может свестись в этой системе до "субъективного переживания", как это произошло с её оппонентами, но предстаёт настолько солидной категорией, что ему становится под силу – правда, на плечах материи – вскарабкаться на то место, которое у Гегеля занимал Абсолютный дух, стать основанием всего. Впрочем, следует сказать, что в этом заключается вся гуманистическая сила позиции Ильенкова – в движении к этому объективному мышлению человек сопричащается свободе, "культура не противостоит индивиду" в коммунистическом обществе "как нечто извне заданное ему, самостоятельное и чужое, а является формой его собственной активной деятельности"; в движении человечества к вне-истории-сущему мышлению каждый отдельный человек приобретает, осваивает, а лучше завоёвывает свободу.
Чувство пассивно, "идеальное действие", мысль, познание, в которых отражено познание человечества вообще и познание с помощью накопленного человечеством багажа, посредством человеческого общества, активно.
Противоположная позиция фактически сводится к тезису Абрама Деборина, с осуждением взглядов которого был произведён термин "меньшевиствующий идеализм" и именем которого клеймили в молодые годы Ильенкова и Коровикова ("скандал в МГУ"): "Можно и должно, например, признать, что жизнь, субъективность [Примечание 1 – А. Л.], мышление, понятие являются необходимым ступенями [Примечание 1 – А. Л.] в процессе диалектического развития субстанции, материи. Но именно потому, что они – формы проявления единой материальной субстанции, они суть лишь "модификации" последней" [7], – очень хорошо. Мышление, таким образом, записывается в форму проявления, модификацию всей "единой материальной субстанции"; однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что объявленное частным проявлением этой материи, мышление, проявлением сколько бы то ни было единого (материи) его не объявляй, становится реализацией отдельного качества, и, следовательно, – способности мыслить не у кого-то вообще, а у человека. Иначе говоря, такая форма проявления, модификация, может быть, а может не быть, и существование её и зависит от наличия homo sapiens, и реализуется им.

Фотография была отобрана у сайта Lenin Crew
Это положение роднит эпигонов Деборина с позицией релятивиста Дубровского, у которого "идеальное есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определённого типа"… Последовательное следование этому положению приводит к очень печальным выводам, а фактически завершается логическим тупиком; мышление здесь "субъективное проявление, личностная обращённость мозговых нейродинамических процессов", "независимо от категории истинности, так как ложная мысль тоже есть не материальное [!!! – А. Л.], а идеальное явление". Проблема категорий мышления, бессознательно усваиваемых поведенческих императивов – всё это выброшено за борт, субъективное осознанное отражение, "нейродинамический процесс" – в этом заключается суть и примитивизм позиции, которая выбрасывает за борт мышление. Мимолётное субъективное переживание – всё, Человек как существо историческое, сугубо общественное – ничто. Эта позиция неизбежно вынуждена рассматривать мышление как субъективный акт, который, положенный не как социально обусловленный, не как в-Истории-сущий, становится или предметом божественного Промысла, или Промысла биологического, физиологистского. И то, и другое имеет для диалектико-материалистической философии равную цену; от всего этого за километр несёт Юмом и Беркли.
У Гегеля и Платона психика, мышление, дух в сущности противоположен материальному миру; в философии Платона сознание, мистифицированное и названное идеей, тем не менее, представлено универсальными, всеобщими, не зависящими от произвола отдельного человека идеями. В этом и заключена сила диалектического взгляда: здесь отношение материи и мышления рассматриваются не как отношение абстрактного мыслящего человека, а как материи и Человека, человеческого общества как целого. Человек рассматривается по отношению к другим биологическим видам или неживой природе не по частям – не рука человека сравнивается с рукой шимпанзе или желудок homo sapiens с желудком черепахи, – а как целое, как конкретный вид к другому конкретному виду. Позиция неодеборинцев (Тутубалин и компания) фактически смешивает эти два уровня: отношение к материи отдельных единиц человеческого общества и несводимого к этим единицам целого к этой самой материи. Не просто смешение понятий, но неспособность диалектически преодолеть возникшее противоречие – такова причина возникшего схоластического спора.
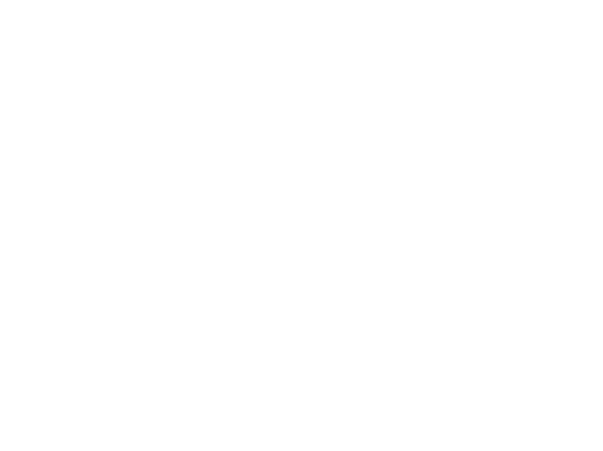
В контексте этой дискуссии материя имплицитно рассматривалась не как материя вообще, а как материя в отношении к факту возникновения мышления; материя, ставшая существенным основанием возникновения и развития планеты Земля как такого пространства, в рамках которого оказалось возможным возникновение и самой жизни, а за ней – мышления. Иначе говоря, материя планеты Земля и материя за её пределами в контексте спора о мышлении – суть разные материи.
Материя Луны не породила ни жизни, ни сознания. Вне Земли предмет спора потерял бы всякий смысл, потому что рассматривать мышление как продукт развития материи за пределами этой планеты по известным причинам невозможно. Таким образом, обе позиции (мышление как атрибут и мышление как модус) должны сознаться в том, что они рассматривают не абстрактную материю "как она есть", а как конкретную материю планеты Земля, в ходе развития которой возникли вода – здесь Земля точно не одинока, и всё же речь идёт об этом событии как моменте развития жизни, – сама жизнь и, наконец, мышление. Это замечание опрокидывает всю суть спора. При конкретном рассмотрении оказывается, что мышление возникло в результате, в развёртывании материи. Это значит, что возникновение 2,04-1,94 млн лет назад первых австралопитеков, а примерно 50 тысяч лет назад первых способных к мышлению homo – критерий здесь весьма точный – наличие речи, а, значит, наличие примитивного, но общественного сознания, – было не случайностью или Богом заданным в духе святого Фомы движением; возникновение мышления подготовлялось всем процессом, всей сутью развития, развёртывания материи. В тот исторический момент, когда возник первый способный к мышлению человек, имелись уже и питьевая вода, и подходящая фауна, и флора, и пригодный для выживания климат. Когда говорят о возникновении homo sapiens, эти моменты не берутся в расчёт, хотя именно такое, конкретное рассмотрение антропогенеза приводит к последовательному диалектико-материалистическому выводу: мышление, нашедшее своё, как выразился бы Гегель, "субстанциальное выражение" в человеке, возникло не случайно. Напротив, его появление подготовлялось, подводилось всей логикой развития материи планеты земля. Начав однажды развиваться, эта материя не могла не вызвать к жизни в ходе своего исторического развития мышление.
Но мышление не просто возникло в материи: более того, и погибнуть оно может, погибнув лишь вместе с материей, в материи. С момента своего возникновения мышление не уничтожимо в отдельности от материи: гибель мышления значило бы гибель любого проявления жизни и, особенно важно, условий его возникновения – это означает, что материя Земли слилась бы с материей безжизненной, "бессмысленной" части Вселенной, а значит сама бы исчезла, растворилась в такой материи, которой не свойственен вопрос о мышлении как таковой. Скажем, ядерная война, результатом которой стало бы самоуничтожение человечества en bloc******, уничтожила бы и материю в том смысле, каком она рассматривалась ранее.
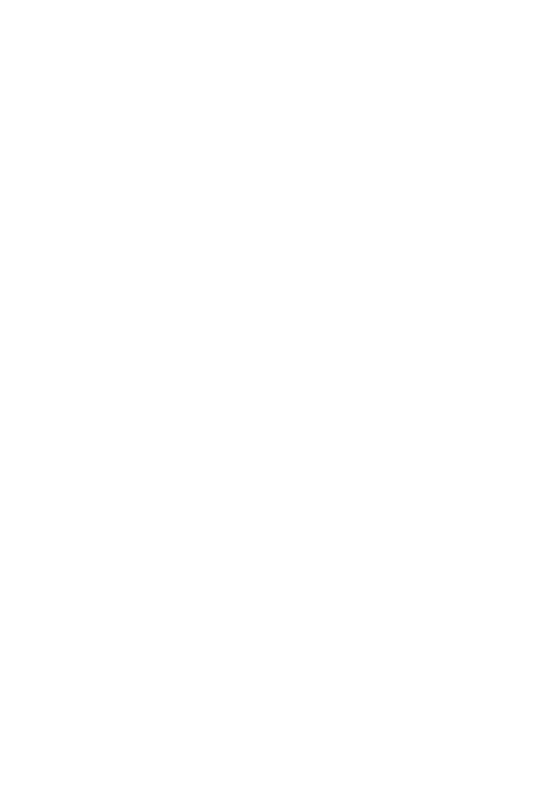
Сохранилась бы, давайте допустим, вода, сохранилась бы твёрдая земная кора. Но это не конкретная материя, не материя-Земля, не материя планеты Земли как планеты, которой суждено было породить жизнь и мышление, а материя вообще, ничем – в этом именно смысле! – не отличающаяся от материи Марса или Юпитера, материи далёких звёзд в галактике Андромеды или материи чёрных дыр. Могут спросить: но ведь на Земле может сохраниться флора, может сохраниться фауна, а мышления все равно не будет. В таком случае надо сказать: если мышление пропадает из истории, но имеются условия его воскрешения, то, в сущности, мышление не уничтожается, потому что неизбежно возрождается вновь. То "живое", включая разнообразные микроорганизмы, которое осталось бы в результате самоуничтожения мышления, мало чем отличалось бы по своему порядку от "живого" за пределами Земли: неспособное к развитию, оно не могло бы составить суть Земли-материи.
Следовательно, возникновение мышления есть результат Земли-материи, а Земля-материя – основание мышления, и исчезновение, прехождение одного в тот же момент есть прехождение, исчезновение другого.
Рассмотренное в становлении, отношение Земли-материи и мышления в известной степени прояснилось. На деле обнаружилось, что мышление, таким образом, есть и атрибут, и модус материи одновременно, а вернее, ни то и ни другое – их третье, результат. Но это положение следовало бы закрепить хорошенько с другой стороны, потому что логика предыдущего рассуждения может привести к ложному предположению, что я встал на позицию материи как атрибута, то есть принял сторону Эвальда Васильевича Ильенкова. Следует задать уточняющий вопрос: хорошо, Земли-материи суждено было вызвать к жизни мышление; став не абстрактной материей, а материей планеты Земля, она не могла не привести к возникновению мышления. Но можно ли на основе этого назвать мышление атрибутом этой материи, её "родовым свойством"? Можно, конечно, но только если представить их как положенные вне истории, вне своего развития; этот историзм и отличает результат от атрибута. С таким же успехом можно заявить, что и капитализм, или коммунизм (в данном случае совершенно неважно), поскольку он является закономерным итогом развития человеческого общества, является атрибутом Человека. Собственно говоря, неважно, что стоит на месте капитализма – такая логика априори ведёт к апологетике существующего порядка, потому что представляет его венцом, необходимым и неизбежным. Поэтому Ильенков прав, когда пишет, что "Гегель абстрактно отождествил историю предмета с историей человеческих знаний о нём" [8] [Примечание 2]. Можно сказать то, что сказано, что возникновение капитализма подготовлялось всей историей Человека, историей человеческого общества. Однако никому из конкретно мыслящих людей не приходило в голову объяснить с помощью существенных моментов, "родовых свойств" капитализма наподобие отчуждения труда или капиталистической стоимости Пелопонесскую войну или Девятый крестовый поход, или даже какое-нибудь не-капиталистическое общество целиком. Иначе говоря, никто сознательно и вне идеологического мышления не объяснял развитие народов Океании с точки зрения капиталистического отчуждения труда или капиталистического рынка, с точки зрения капитализма. Маркс раскрывает важный аспект истины, говоря, что "анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны", подразумевая, что в обезьяне уже содержались те качества, которые должны были развиться в человеке. Но никому не приходило в голову объяснять обезьяну с точки зрения человеческих категорий.
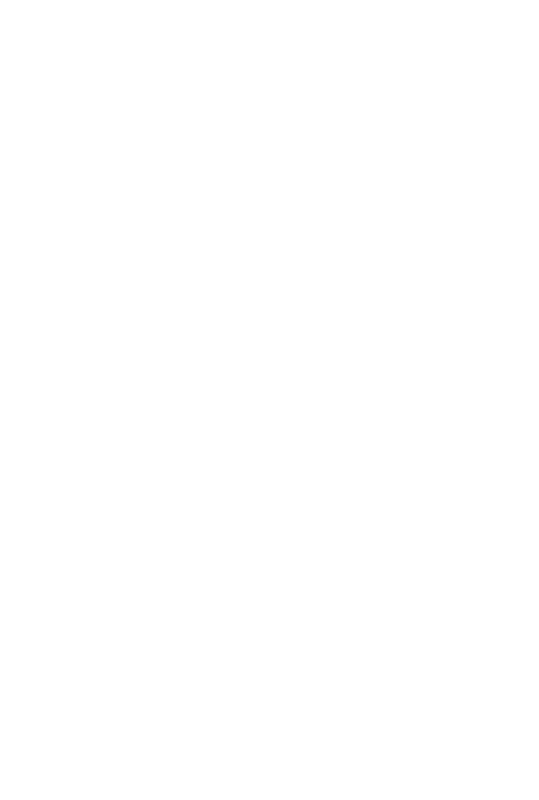
Сама суть бытия Земли - в существовании человека
Последовательный диалектический материализм подходит к следующему противоречию. Рассматривая абстрактную материю и мышление, он упёрся в противоречие модуса и атрибута; после того, как мышление было представлено результатом не абстрактной материи вообще, а Земли-материи, материи планеты Земля, противоречие не отпало – противоречие вообще является ключевым основанием объективной реальности и диалектического метода её рассмотрения, – но стало явным, конкретным, понятным. История здесь была историей развития материи-Земли, не история Универсума, Вселенной. Следуя этой логике, нужно постулировать: в тот исторический момент, когда в результате развития материи-Земли возникает мышление, начинается новая, третья история. Порождённое материей, мышление, а значит человек – здесь всё ещё присутствует недосказанность – сам начинает изменять её, вступая в диалектическое соотношение с ней. Всё это взаимодействие не снимает ни истории Универсума, ни истории материи-Земли; более того – эта третья история, история материи после порождения им же мышления находится внутри всех предыдущих историй, а не отделяется от них.
Но может ли материя, вступившая в конкретное диалектическое взаимоотношение с мышлением, рассматриваться как равная той, что была до возникновения мышления? Эту проблему вскрыл уже Маркс, когда шла речь о производственных отношениях, порождающих такое историческое движение, которое изменяет сами эти производственные отношения. Или может быть материя, находящаяся в диалектическом отношении с мышлением, рассмотрена просто как материя, а не как материя-в-мысли? И здесь последовательный диалектико-материалистический взгляд не терпит спинозизма, рассмотрения материи как атрибута мышлении. Мышление становится атрибутом материи наравне с протяжённостью, темпоральностью. Но ведь материя становится протяжённой, темпоральной только в восприятии человека, а не сама по себе – объективная реальность, согласно современной физике, может быть рассмотрена за пределами четырёхмерного пространственно-временного континуума, то есть протяжённость и темпоральность становятся атрибутами материи только в восприятии человека. До возникновения Человека, человеческого общества как носителя мышления, нет не только мышления, но нет ни темпоральности, ни протяжённости... Это нисколько не подрывает ни существо материи, ни позиции диалектического материализма, а, наоборот, делает понимание материи конкретным.
Возвращаясь к проблеме материи-в-мысли, следует заметить: великолепная готическая базилика Сен-Дени Пьера де Монтрёя XIII века не является тем же самым для века XXI, даже если бы сама сделалась нетленной, даже если бы не повредился ни один её строительный блок, даже если бы из её витражей не выпало ни стёклышка. Материальный предмет может быть воспринят как таковой, как вещь-в-себе, только как целое, образуемое им с идеальностью, идеальным Человека, человеческого общества конкретной эпохи. Ровно так же и социальная система как целое является собой лишь в диалектическом соотношении со своим идеальным (категориями мышления, моральными императивами и т.п.), в своём противоречивым и оттого самодвижущемся для-себя-бытии.
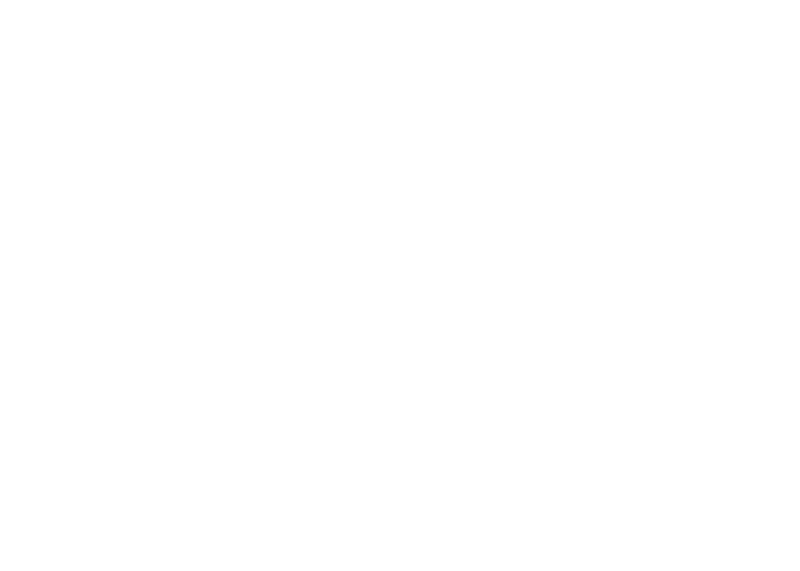
А ведь витражи сами создают свой малый универсум внутри большего универсума собора
Такая материя, породившая мышление и мышлением изменённая, порождает материю-в-мысли, которая не сводится, не редуцируется до Земли-материи или до материи вообще, как не сводится сам человек к обезьяне, а млекопитающее – к амёбе. Но в то же время, это как несводимая, так и неразрывная связь – материя вообще обуславливает существование материи-Земли как особой реальности, отдельной от материи Вселенной, как и материя-Земля своим результатом имеет момент возникновения мышления, которое изменяет само породившее его основание, специфицируя его по отношению к материи-Земле вообще. Итак, каковы же, в таком случае, отношения материи-в-мысли и материи-Земли? Ответ таков: они соотносятся так же, как специфицированное количество, качество, соотносится с количеством вообще – образуя самодостаточность, материя-в-мысли имеет своим основанием не что иное, как материальный мир. Поэтому происходит не абстрактная дедукция, а то, что в марксовом методе названо "дедукцией категорий". Матрёшка материи (идущая, правда, в обратном порядке), развивающаяся через противоречие с самой собой, образует на каждом промежутке истории качественный разрыв, после которого образуется новая, нитями основания связанная со старой реальностью: "Hic Rhodus, hic salta!"*******.
IV
Мышление и...?
В споре о мышлении/сознании как модусе/атрибуте материи/бытия имело смысл остановиться только на второй паре, противоречие в которой и заложило основы дискуссии – после неспособности её разрешить схоластическим душком наполнились и другие "составляющие" спора. Но участники дискуссии не поняли не только диалектического отношения материи и мышления как основания и результата, но не поняли и куда более простой, хотя не менее важный момент диалектико-материалистической философии. Что соединяет, порождает то самое "диалектическое тождество бытия и мышления", вокруг которого не на жизнь, а на смерть вёлся этот схоластический спор? Тем характернее, что все его участники объявляли себя "материалистами", но об этой проблеме не задумались. Действительно, что связывает отдельного человека с другими такими же индивидами, что является реальным основанием мышления при рассмотрении в отношении к конкретному человеку? Каков, другими словами, механизм сопричащения реальности конкретным человеком и человеческим обществом?
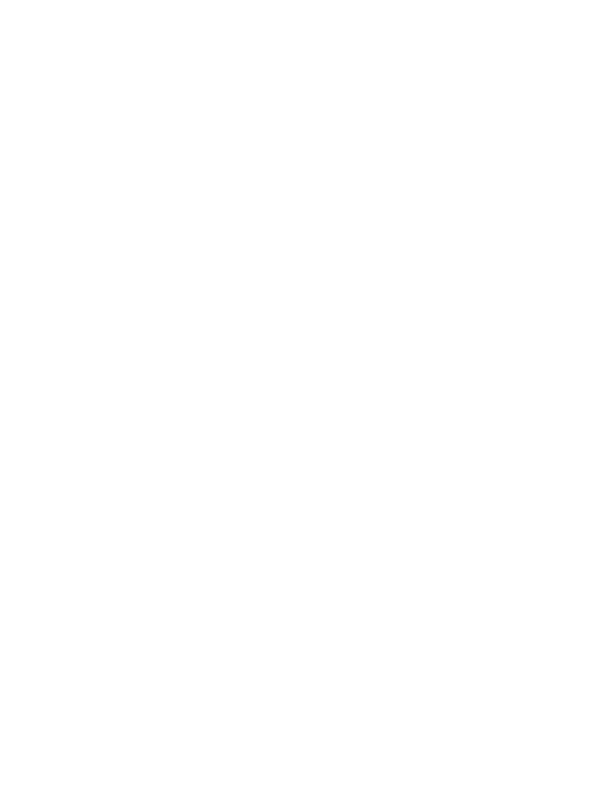
Труд, именно труд, делает человека человеком
Ключевым понятием психологии, отдельного человека и отдельно взятого общества является деятельность, практика, без которой отношение мышления и материи не может быть понятым в принципе, как не может быть понято отношение рабочей силы и стоимости без товара: "Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью – это вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность (курсив мой) своего мышления" (второй тезис о Фейербахе) [9]. Реальной сущностью Человека, тем единственным, с помощью чего он проявляет себя в объективной реальности, является его деятельность, моментом самого определения которой является труд [10]. Ильенков не вполне прав, когда пишет, что человек пассивен в чувстве и активен в идеальном действии, в мышлении.
В сущности, человек реален, действительно активен только в своём предметном преобразовании окружающего мира, материи-в-мысли, Универсума как целого, без разделения природы и общества, поскольку преобразование одного неизбежно предполагает преобразование второго через их отношение.
Деятельность возможна только как предметное и только как коллективное. Отдельный человек не производит ничего: в труде одинокого лесоруба – в виде ли сшитой рубахи, в виде ли изготовленного топора, в виде ли испечённого хлеба – принимают участие десятки людей, и она же является количественным, всеобщим основанием всего человеческого бытия. Без этого, "количественного" основания, обрамления, невозможно ни мышление, ни вообще совместное существование людей посредством речи. Языку свойственны понятия и даже отдельные слова только как языку трудящихся людей.
Но мышление определяется деятельностью в двойном смысле. С одной стороны, мышление связано с деятельностью теми же генетическими отношениями, отношениями происхождения: слово, значение не только было вызвано к жизни самой потребностью коллективной деятельности, но, чтобы воплотиться в вовне направленной речи, в языке, в голосе, долгое время "кочевала", "искала" оптимальные формы своего выражения – действительно, речь не ограничивается колебаниями, которые производятся мышцами голосовых связок; до сих пор можно говорить о моторной, в движении выраженной речи. Причём в процессе деятельности человек выступает не всесильным божеством – он диктуется, ставится в границы собственным предметом: правы те, кто говорил, что сама необходимость "заставляла" Человека не просто стать существом мыслящим, а значит трудящимся, но и запоминать, подвергать анализу то, что этой необходимостью диктуется. И здесь важное место занимает понятие представления, которое не зря названо пред-ставлением, Vor-stellung, поставленным перед человеком, а не сущим в нём самом. Представление играет ключевую роль в общественном сознании, играет роль моста в двояком смысле – роль моста между людьми, поскольку в этом "порождении головы" уже присутствует известная степень объективности (разумеется, объективности по отношению к субъекту, к человеку), что и делает возможным его существование вне головы отдельного человека – представление о божестве не может быть сведено к переживаниям отдельной головы. С другой стороны, именно с помощью представления становится возможной предметная деятельность: человек, держащий в руках топор, имеет определённое представление о том, что должно получиться после того, как он сущность этого топора реализует – срубит им дерево или расколет дрова. В его голове уже имеется некоторый образ, не из воздуха взявшийся, а возникший на основе анализа действительности, и в то же время – это представление, существующее в голове, но воспринимаемое по отношению к реально существующему предмету, ориентирует сам характер деятельности.
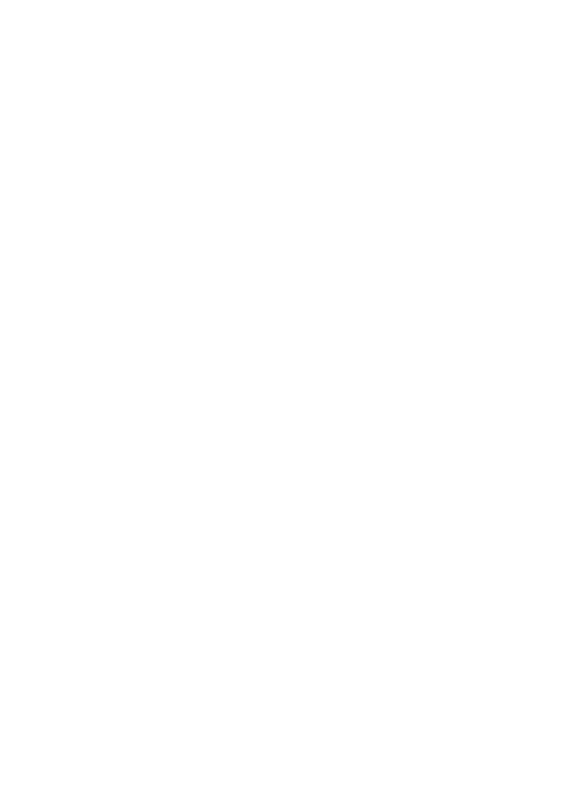
Светило советской психологии Алексей Николаевич Леонтьев
показывает позитивистам кузькину мать
показывает позитивистам кузькину мать
Представление, как теперь видно, есть не что иное, как связующее звено между мышлением и деятельностью, возникшее на основании последней и являющееся в свою очередь основанием первой. В процессе деятельности не отдельного человека – А. Н. Леонтьев по этому поводу делал критическое замечание, не выводя позитивного положения, – а общества, через представление отдельного человека, выливающееся в систему общественного сознания в целом, происходит, таким образом, осмысление материального мира. Действительно, пока рубишь дрова, думать не так удобно, но только в процессе труда как исторического процесса, а не "конкретного" переживания "конкретного" человека возможно как познание, так и осмысление и преобразование имеющегося налицо мира. Знаменитую формулу – бог возник от страха и бессилия перед природой – следовало бы уточнить: религия появляется там и постольку, где и поскольку коллективный труд творит чудеса, которые не могут объясняться в одной человеческой голове. Животное не чувствует никакого дискомфорта от пребывания в дикой природе, человек же начинает переживать своё бессилие не тогда, когда это бессилие абсолютно, а когда деятельность человеческого общества в преобразовании природы упирается в естественные пределы.
Но мышление опосредуется деятельностью не только через представление. В опосредовании представлением никакой двоякости нет, как и нового ничего в этом положении не сказано. Но надо заметить, что мышление опосредуется деятельностью не только в генетическом отношении, не только вызывается ею к жизни: более того, наполнение мышления, его качественные моменты так же имеют своё основание в деятельности, следовательно, в общественном бытии. Кусочек этой мысли уловил в своё время Лев Выготский, хотя и не развил её в должной мере: "Эмоция выражается, следовательно, не только в мимических, пантомимических, секреторных, соматических реакциях нашего организма, но она нуждается и в известном выражении посредством нашей фантазии" [11]. Идея, что, вообще-то говоря, человеческое сознание каким-то образом связано с чувственностью, есть в сущности идея психологическая, и в философии она осмыслялась с этой психологической стороны. Поэтому неудивительно, что первой обратилась к ней европейская культура в рамках науки о душе, о Духе, о психике... и у Канта, и у Фихте, Шеллинга – согласно которому, эстетическое познание на порядок выше мышления логического, рассудочного – и, наконец, в системе Гегеля. Впервые же поставлен на ноги, связан с деятельностью, чувственный момент мышления был не кем иным, как Марксом, а как развёрнутая теория состоялся не где-нибудь, а в рамках теории деятельности (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, М. С. Лебединский, П. И. Зинченко и др.), где деятельность и мышление были связаны неразрывно. Мышление, как пытался доказать С. Л. Рубинштейн – что было по сравнению с позицией позитивиста Корнилова уже шагом вперёд другого порядка – не "проявляется", а присутствует, наличествует в деятельности как момент; Рубинштейн явно представляет изолированного Робинзона, колющего дрова, так же будет поступать и школа Щедровицкого времён упадка советского общества и упадка философии. В основе же последовательного диалектико-материалистического взгляда, что выразилось в теории Леонтьева-Выготского – их "противоречия" и сущностные расхождения являются не более чем дешёвеньким мифом, даже в отношениях с Рубинштейном не было жёсткого антагонизма, – лежит рассмотрение деятельности как исторического, системного факта, факта, относящегося до человеческого общества целиком, а не до отдельного Робинзона. При таком, историческом рассмотрении деятельности мышление действительно становится не "проявляющимся и формирующимся", как у Рубинштейна, а, повторюсь, присутствующим в процессе деятельности; позиция Щедровицкого по этому вопросу вообще не имеет никакого отношения к диалектическому материализму.
Итак, деятельность образует интегральный, ключевой момент в становлении, характере всего человеческого общества; скажите, каков характер деятельности этого общества, и вы сами сможете сказать, что оно есть. Поэтому деятельность не только отражается в любой сфере общественного тела, но и сама претерпевает изменения как существенный, но момент целого. Всё вышесказанное позволяет ответить на вопрос: в каком свете теперь предстают проблемы "мёртвого имени", разнородной "эмоциональной ткани", громоздкости, отягощающей последовательности языка? В формах самого языка? Отнюдь: эволюция, этот "слепой лучник", нашла оптимальное выражение, ничего лучшего она найти не смогла, а потому не сможем и мы. Но прежде стоит прояснить понятие "эмоциональной ткани": А. Н. Леонтьеву принадлежит огромное количество новоязов, но одним из самых значительных, развитых им на основе диалектико-материалистической философии понятием является "чувственная ткань".
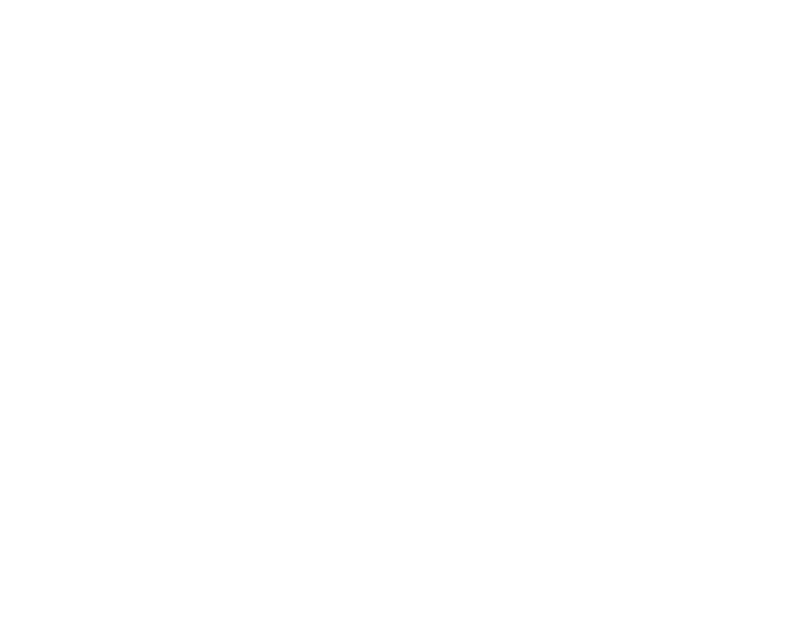
Около 90 миллионов палочек...
Всю свою жизнь Леонтьев защищал ту позицию, что картина мира (Weltbild у Вундта) не сводится к пучку чувств, не является просто собранием восприятий, пропущенных через те или иные органы. Структура, скажем, глаза такова, что он, вопреки Кравкову и его опыту, является не просто "фотокамерой", а, на первый взгляд, полностью непригодной для использования системой: всем известно и то, что сетчатка вынуждена "переворачивать" проецируемое на неё через зрачок изображение, и фиксация происходит на 5-м поле Бродмана, и даже "слепое пятно" присутствует в изображении, и сама сетчатка построена неравномерно (на 6 миллионов колбочковых клеток в фовеальном углублении – около 90 миллионов "периферийных" палочек), и цвет при необработанном восприятии сильно колеблется.
Такова картина не только с глазами, а любым органом восприятия; не приходится говорить уже о том, что такое свойство, как способность "спинного зрения", ощущения, что за спиной нечто есть, вообще необъяснима с позиции примитивистов от мира психологии. Чувственная ткань, таким образом, своим основанием имеет реально воспринимаемые через органы чувств ощущения, но к ним не сводится, образует некоторый фундамент сознания вообще и в этом смысле сознание напоминает.
В этом контексте и используется здесь, для чёткого обозначения этого явления, понятие "эмоциональной ткани". Она фактически связует чувственную ткань и мир смысла, объективированного в словах, предметах и образах, является фундаментом этого мира смыслов – с одной стороны, эмоциональная ткань общества определяет "чувственность вообще", способность переживать нечто от артикуляции того или иного смысла через слово, предмет или образ. С другой стороны, понятие эмоциональной ткани означает некоторую чувственную, ощутительную квинтэссенцию того или иного смысла, объективированного, как правило, в слове. Представим, что два разных человека слышат слово "либерализм", которое вызывает у них разные реакции: у одного пробуждается чувство неприятия, у другого – некоторое чувство причастности, родственности к понятию, объединяющих множество людей. Раскрыть сущность понимаемого ими слова они даже для себя ещё не успели в этот момент, не говоря уже о том, чтобы развернуть эту квинтэссенцию, наполнить аргументами, рационализировать. Однако некоторое эмоциональное "пятно" при улавливании некоторого значения уже возникает, и оно является разным не только и не столько для отдельных людей, сколько для отдельных обществ.
Вопрос мышления, таким образом, становится в связь с его наполнением, с эмоцией, чувством. Действительно, давно уже не является секретом и для психологической науки, и для философии – не говоря уже о житейском смысле, который догадался об этом ещё раньше, – что ключевым двигателем мышления, его наполнением является чувственность, связующее звено процесса деятельности и момента мышления, заключённого в нём. Выражаясь в понятиях философской науки, надо сказать, что на место понятия эмоциональной ткани можно без вреда подставить эстетику, искусство.
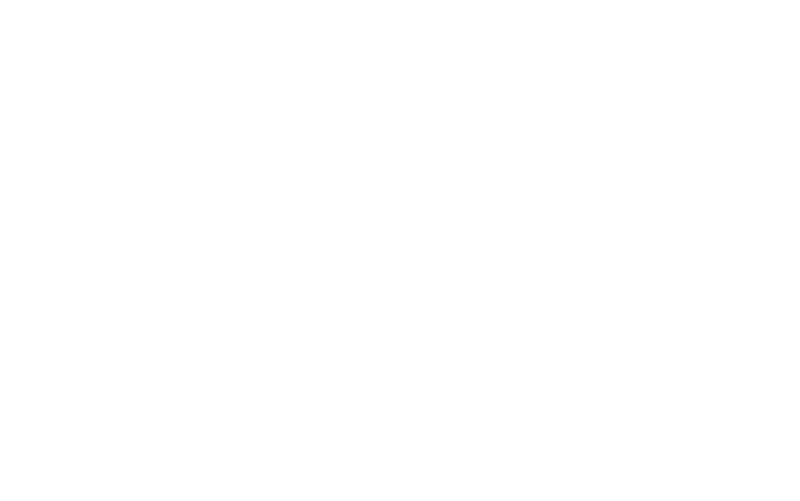
Здесь искусство имеет всеобщий характер, свойственно каждому человеку, а лучше всего определено может быть как "способность к производству смыслов и их переживанию", в более морализованной форме – жизненность, витальность. Искусство здесь не заменяет мышления, а является его, повторюсь, двигателем, наполнением – искусство, понятое как универсальная чувственность, чем сильнее (оно само), тем настойчивее движет рассудок по пути познания, тем богаче производимые этим рассудком, наполненным чувством, смыслом; понятое таким образом искусство оживляет мышление. Так, понимание с полуслова – это не сверхъестественное, а вполне себе посюстороннее, объяснимое качество; оно возможно не между абстрактными людьми, но только среди тех, кто ощущает общность друг с другом.
Основанием человеческой общности и этого "сверхъестественного" качества, его ключевой предпосылкой, является деятельность, через которую человек кажет себя во внешнем мире и через которую вообще происходит ежедневное становление человеческого мира. Чувство общности возникает там и тогда, когда между двумя людьми, или коллективом людей, отсутствуют взаимоисключающие друг друга интересы, которые, в свою очередь, основаны на таких производственных отношениях, которые способны предположить этот антагонизм. Причём этот антагонизм не просто должен отсутствовать между двумя людьми, но быть сублимированным, ослабленным в обществе в целом; иными словами, можно постулировать: общество понимающих с полуслова возможно там и постольку, где и поскольку исчезает антагонизм интересов, где и поскольку сохраняется при этом живая потребность друг в друге. Понимание в таком виде выходит далеко за пределы человеческого общения; рождённое в деятельности, понимание само охватывает общество в его всеобщности: способность посмотреть на мир глазами другого человека или способность, смотря на картину, произвести в голове на основании этого эстетического созерцания свой красочный мир или, вскрыв сюжет, обнаружить реальную структуру произведения, которая, безусловно, присутствует в эпохах, предшествующих всеобщей технической воспроизводимости и репродукционной культуре. Ильенков тоже размышлял над этой проблемой: "В кинофильме "Жуковский" ... есть хороший кадр. Герой фильма идёт по улице. Льёт дождь, спешат прохожие, но Жуковский ничего кругом не замечает – он настолько погружён в свои теоретические размышления, что всё вокруг кажется ему каким-то пестрым маревом, сквозь которое старается рассмотреть совсем другую действительность. Перед его умственным взором – только формулы, выкладки, расчеты... Вот он остановился перед ручьём, ищет, где бы перешагнуть, не замочив ног. И тут его взгляд падает на кирпич, выделяющийся посреди потока текущей воды. Стоп! Жуковский внимательно всматривается, остановился. В чём дело? Ничего не замечал человек [! – А. Л.], а вот кирпич приковал его внимание. Наплывом (приём, позволяющий показать факт глазами действующего лица) несколько изменилась форма кирпича; соответственно изменился характер обегающей его волны.... На лице героя – радость открытия: вот оно – искомое решение задачи, вот она – общая идея расчётов, выкладок, принцип [курсив мой. - А.Л.] [12] решения".
Здесь кроется и разгадка "мёртвости имени" – человеку с абстрактным мышлением достаточно пометить тот или иной денотат, обозначаемый в слове предмет, "значком" как это называл Николай Ланге. И этим отнюдь не удовольствуется человек с мышлением конкретным, которому хочется не просто "наполнить" имеющуюся семантические "клеточки" смыслом - в процессе этого "наполнения" ведь меняет свою природу и сама форма, – то, что обыденный язык верно обозначил как "любознательность", "Neu-gierig-keit" (нем.), "zvedavy" (чеш.): "На животного производят впечатление только непосредственно необходимые для жизни лучи солнца, на человека – равнодушные лучи отдалённых звёзд" [13]. Или более мрачный пример, убийство человека: нужна принципиальная неспособность общности с жертвой, неспособность "посмотреть на мир его глазами", определённая степень чувственной и импотенции, т.е. даунизма. "Глаза человечества", таким образом, "смотрят" на мир не одинаково, а в зависимости от состояния человеческого общества - в своём историческом развитии человек то прозревал, то слеп.
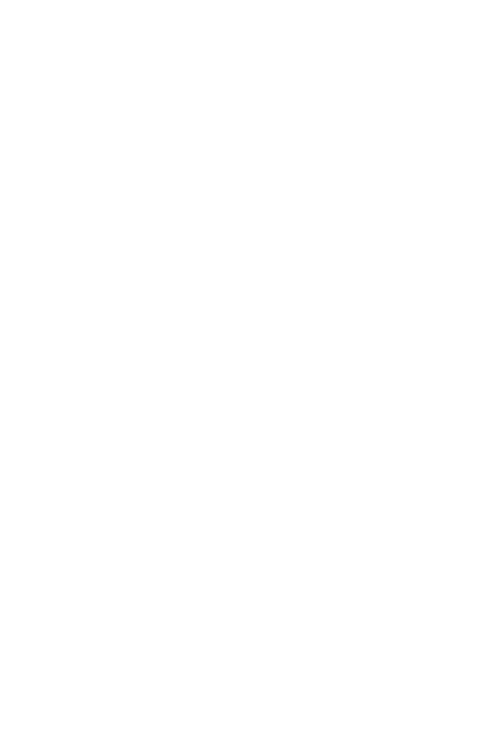
Потому мир позднего капитализма рождает типаж, который вполне обоснованно можно назвать "атомизированным даунизмом" [14], тогда как коммунизм по своему определению означает не только общество без эксплуатации, но и мир понимающих друг друга с полуслова людей. Так что "Я нигде не чужой, //Мне никто не чужой. //Всё мне знакомо" в исполнении Магомаева или "Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей" Дунаевского – не только мертвенные имена, слова.
Набросанной схеме не хватает теперь только последнего звена. Хорошо, деятельность и мышление, сцепляемые через чувственную и эмоциональную ткань образуют целое, как образуют целое базис и надстройка, рассматриваемые как выражение материи-в-мысли, связанной узловым единством с Землёй-материей и, таким образом, материей вообще. Но отсюда ещё не вытекает, не следует ответа на вопрос: каким образом каждый отдельный человек сочетает в себе дуализм мышления и материальности? На вопрос этот в Новое время было два принципиальных ответа: ответ, данный иезуитом Декартом о "шишковидной жéлезе" и ответ о "мыслящем теле" Спинозы, и ни один из них не мог считаться удовлетворительным вполне: объяснённое объективное создавало путаницу в субъективном и наоборот. В контексте диалектического единства, рассмотрения материи-в-мысли как результата, введении понятия деятельности и вообще всего того, что было сказано выше, может быть предложен такой ответ. Когда Ильенков пишет, что в процессе деятельности и формируется мышление [15] , это шаг вперёд по сравнению с позицией Рубинштейна, у которого мышление себя "проявляет". Однако в этой модели непонятно, что служит исходным мотивом деятельности: вообще, в рассуждениях Эвальда Васильевича понятия "произвола", воздействия человека в активном идеальном действии и т.п. не "проскакивают", а имплицитно присутствуют во всей логике построения модели. Перед тем, как, вступив в пространство деятельности, приобрести мышление, человек в этой модели обладает некоторым зарядом воли, некоторой потенцией, и только этот deus ex machina спасает логическую картину целиком.
Чтобы понять сущность проблемы, надо представить дело таким образом. Действительно, "не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, общественное бытие определяет их сознание", от деятельности, процесса труда и воспроизводства зависит мышление. Но в сознании то одного, то другого человека – отнюдь не случайно – проскакивают самые разные "дрянные мысли", как, скажем, по одному древнему греку "люди тонут в воде только потому, что они одержимы мыслью о тяжести". Иначе говоря, остаётся ли идеальное, представление, применённое в практике к предметному полю, тем же самым? Вопрос о свободе здесь становится чистейшей химерой: не мышление находит опредмечивание в практике или практика отражается в мышлении, а мышление, наличествуя в практике, само подчиняется ей, "дрянные мысли" возникают только от соприкосновения с практикой и только ею в конечном счёте правятся.
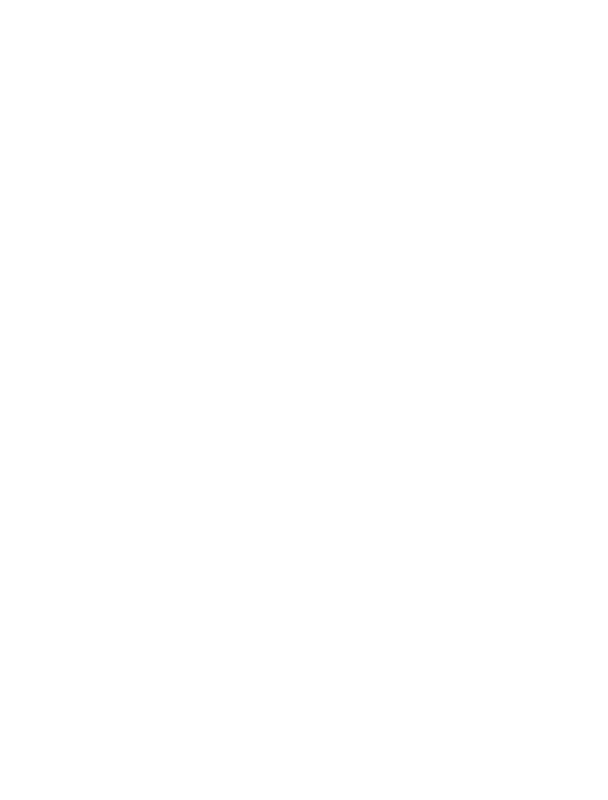
Более того, сама практика образует verite pour, сама формирует категориальный, целеполагательный аппарат. Для Богданова никакой альтюссеровой "верите пур" нет, как и нет проблемы воспроизводства, поставленной Марксом в словах "воспитатель сам должен быть воспитан". Есть единый социально-организованный опыт, "схема стереотипов", с которыми абстрактный индивид вступает во взаимоотношение. Откуда этот индивид взялся как нечто внешнее этому "опыту" – непонятно; Ильенков в этом смысле, как и другие сознательные диалектические материалисты (скажем, Грамши), осознавал необходимость, но как некоторую внешнюю, извне надвигающуюся на свободную волю силу. Утверждая, что человек прыгает в стену необходимости и ударяется об неё, не удавалось объяснить, что заставляет человека прыгнуть.
Таким образом, деятельность, материя, не просто является фундаментом мышления, как заявлял Тутубалин, а охватывает это мышление целиком, задаёт саму суть мышления, его категории. И так порождённый деятельностью, дискурс "возвращается" в неё, испытывая преобразование в переходе от идеальной к материальной реальности. Возвращаясь к метафоре наполненного вязкой жидкостью пузыря, следует подытожить: человек не "действует" в целом, не барахтается в этом пузыре, а сам является его сутью, сам есть часть его внутренней природы, и в то же время – поэтому в такой системе он куда более свободен, чем абстрактная "свобода" философии Нового времени – самая существенная, как результат, её часть.
V
Маленькие замечания о сущности схоластического спора и личности Эвальда Ильенкова
За ожесточённым схоластическим споров стояли весьма прозаические мотивы (раскрывать сами механизмы их реализации нет ни места, ни особенного желания): Ильенков представлял традицию, из которой в дальнейшем вырастет "постсоветская школа критического марксизма". Вся его философия несла на себе отпечаток великих ожиданий 1950-х годов, ожиданий прошедшего Великую войну поколения (он сам воевал, дойдя до Берлина), и к 1970-м годам стала антисоветской. Не потому, что Ильенков перестал быть коммунистом, а потому, что коммунистом остался. Приправленные трибунальским душком обвинения в идеализме могли сыпаться только на его работы, но не на его личность: не было в его биографии "пятен", за которые можно было бы уцепиться. Его "Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении" является центральной работой всей советской философии, а сам он был наследником глубокой классической традиции в философии.
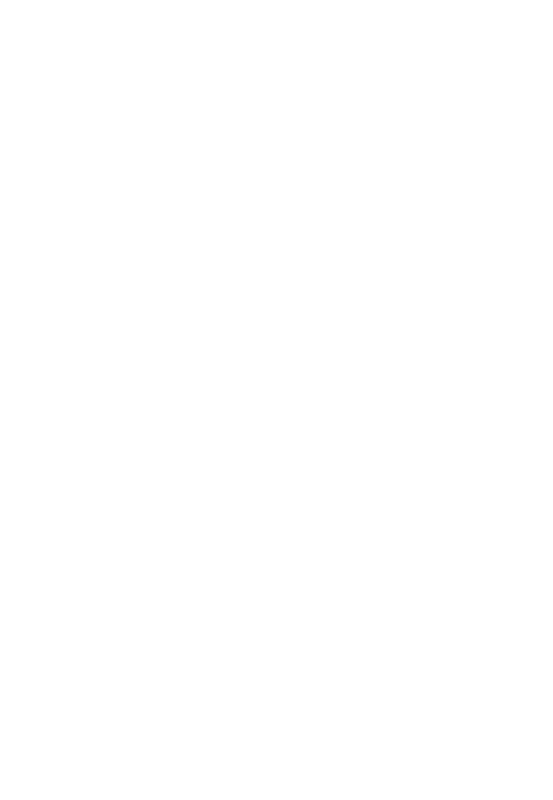
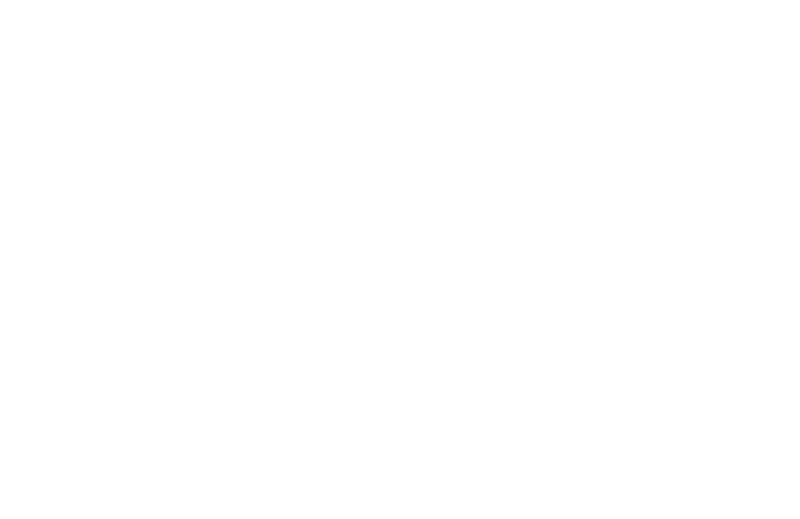
Эвальд Васильевич с Сашей Суворовым
Представление идеального как объективного может создать представление о том, что Ильенков, наверное, был детерминистом, да и не особенно ценил человеческое существо; однако такие утверждения могут быть или от незнания его наследия (многочисленные публикации, собранные в "Искусстве и коммунистическом идеале"), или от незнания его биографии (участие в Загорском эксперименте). Ильенков единственный из советских философов покинул душное здание института философии АН СССР и обратился к самой жизни – он всю жизнь занимался самыми разными сферами, от моделирования (как, в частности, и Леонтьев) до психологии, – и венцом этого стремления стало его участие в Загорском эксперименте, и в особенности история его отеческой любви к слепоглухому мальчику Александру Суворову, здравствующему и поныне доктору психологических наук.
Наброски к биографии Ильенкова нужны были для придания контекста всему спору, который вёлся последнее время среди наших пигмеев. Повторилась история с махистами: проблема мышления и материи поставлена советской философией в 30-50-х годах, предпосылки к преодолению этого противоречия заложены Ильенковым и ранним Батищевым. Современные споры ведутся вокруг проблемы, не их участниками поставленной, а разрешение их в сущности сводится к повторению старых тезисов, высказанных более полувека тому назад. Действительно, у философии в этом смысле нет истории; история есть у философствующих обществ.
И всё же разграничение материализма и идеализма не лишено смысла, пускай и принесло больше вреда, чем пользы.
Примечания и сноски
Примечание 1
Имеем логический ряд «жизнь, субъективность, мышление, понятие». Допустим, что под субъективностью понимается не та релятивистская мысль, где мышление, сознание, есть субъективно переживаемое явление. Против такой трактовки выступает употребление рядом с мышлением понятия, т.е., по Гегелю, «существенного общего», клеточки его Логики. Гегеля Деборин читал, и допустить такую трактовку можно, лишь допустив кретинизм её автора, что было бы слишком лёгким делом. Проблему, впрочем, это не снимает, но лишь ставит: хорошо, допустим, что субъективность здесь – способность индивида к субъективному отражению, апперцепции, представлении о себе самом. Логический ряд можно было бы разбить на два блока: жизнь и её частное проявление, субъективность и мышление с понятием. Однако если субъективность действительно является именно частным проявлением жизни, то, следовательно, первая к последней не сводится; хлеб есть еда, но не еда есть хлеб. В случае же с отношением понятие-мышление ряд строгий: понятие образует «клеточку» мышления, и мышление пронизывается понятием целиком. Таким образом, уже сам ряд или целый, или неудачно разбит на две части. К последнему подталкивает, в частности, то, что первые два слова в ряде Деборина носят явно онтологический оттенок, третье и четвёртое – гносеологический.
Но здесь пока ничего, кроме семантической придирки нет. Вопрос заключается в другом: можно ли артикулировать проблему субъективности в логическом ряде таких вполне себе объективных категорий, как мышление и понятие? Насколько в отношении к объективному мышлению свой смысл имеет субъективность? В отношении с объективным мышлением никакого значения субъективность не имеет: эта субъективность, человеческое отражение, возможна только на основе усвоения представлений и понятий, не принадлежащих отдельному человеку, присущих ему «вне зависимости от его произвола», целиком опосредует эту субъективность. Субъективность здесь растворяется в объективном мышлении, поскольку не существует вне объективно сущих категорий и понятий. В случае с жизнью и субъективностью такого сказать нельзя: в отношении к жизни вообще замечание об апперцепции – действительно важный момент. Но в рассмотренном как целое ряде «жизнь, субъективность, мышление, понятие», происходит смешение проблем: последовательно связанной цепи эти слова не образуют, иначе следовало бы написать «жизнь, субъективное отражение (а разве субъективное отражение предшествует объективному мышлению?), понятие, мышление». Да, субъективность за появлением жизни действительно следует, а вот мышление с понятием иерархического ряда не образуют. И да, из жизни вытекает субъективность; но как возможна субъективность в качестве предшествующего мышлению, если она сама существует только посредством объективных категорий?.. Словом, получается сама по себе несуразная логическая цепь, где, кроме того, неудачно в одном семантическом ряде поставлены мышление и субъективность.
И ещё. Эти не вполне корректно «собранные» – поскольку последние три в сущности не могут быть поставлены в последовательном ряде без проговаривания их отношения, иначе получается выше показанная несуразность – словечки образуют у Деборина якобы «необходимые ступени» в развитии единой субстанции. Шаг действительно хорош, потому что самая грубая опасность – представить возникновение трудящегося человека, а вместе с ним и мышления как случайность – уже миновала. Но остаётся другая проблема: метафора ступени предполагает прерывность; материя находится в этот исторический момент на одной ступени, завтра на другой, послезавтра на третьей. Здесь пройденные ступени существуют как односторонне определяющие, а не являются в гегелевском смысле основанием существующей на новой ступени материи, где результат неразрывно связан с основанием и влияет на него. Метафора ступеней предполагает одностороннюю связь, где мышление не находится в связи с материей, а проистекает от неё. Подчеркнув тот факт, что ступени эти проходились не случайно, Деборин не увидел взаимосвязи результата, мышления, с судьбой основания, материи.
Но здесь пока ничего, кроме семантической придирки нет. Вопрос заключается в другом: можно ли артикулировать проблему субъективности в логическом ряде таких вполне себе объективных категорий, как мышление и понятие? Насколько в отношении к объективному мышлению свой смысл имеет субъективность? В отношении с объективным мышлением никакого значения субъективность не имеет: эта субъективность, человеческое отражение, возможна только на основе усвоения представлений и понятий, не принадлежащих отдельному человеку, присущих ему «вне зависимости от его произвола», целиком опосредует эту субъективность. Субъективность здесь растворяется в объективном мышлении, поскольку не существует вне объективно сущих категорий и понятий. В случае с жизнью и субъективностью такого сказать нельзя: в отношении к жизни вообще замечание об апперцепции – действительно важный момент. Но в рассмотренном как целое ряде «жизнь, субъективность, мышление, понятие», происходит смешение проблем: последовательно связанной цепи эти слова не образуют, иначе следовало бы написать «жизнь, субъективное отражение (а разве субъективное отражение предшествует объективному мышлению?), понятие, мышление». Да, субъективность за появлением жизни действительно следует, а вот мышление с понятием иерархического ряда не образуют. И да, из жизни вытекает субъективность; но как возможна субъективность в качестве предшествующего мышлению, если она сама существует только посредством объективных категорий?.. Словом, получается сама по себе несуразная логическая цепь, где, кроме того, неудачно в одном семантическом ряде поставлены мышление и субъективность.
И ещё. Эти не вполне корректно «собранные» – поскольку последние три в сущности не могут быть поставлены в последовательном ряде без проговаривания их отношения, иначе получается выше показанная несуразность – словечки образуют у Деборина якобы «необходимые ступени» в развитии единой субстанции. Шаг действительно хорош, потому что самая грубая опасность – представить возникновение трудящегося человека, а вместе с ним и мышления как случайность – уже миновала. Но остаётся другая проблема: метафора ступени предполагает прерывность; материя находится в этот исторический момент на одной ступени, завтра на другой, послезавтра на третьей. Здесь пройденные ступени существуют как односторонне определяющие, а не являются в гегелевском смысле основанием существующей на новой ступени материи, где результат неразрывно связан с основанием и влияет на него. Метафора ступеней предполагает одностороннюю связь, где мышление не находится в связи с материей, а проистекает от неё. Подчеркнув тот факт, что ступени эти проходились не случайно, Деборин не увидел взаимосвязи результата, мышления, с судьбой основания, материи.
Примечание 2
Уже было сказано, что Гегель фактически смешивает историю развития объекта и историю знаний о нём. Однако касается это только Идеологии (его знаменитая фраза об истории философии как истории её самосознания) общества. В случае с рассмотрением Логики вообще Гегель такой ошибки не допускает, потому что, раскрывая понятие меры, пишет об "узловой линии отношений меры": "Но, далее, в силу основного количественного определения исключающее избирательное сродство продолжается также и в других для него нейтральностях... а нейтральность как таковая имеет в себе некоторую разделимость, так как те, от объединения которых она произошла, вступают в соотношение как самостоятельные нечто, каждое как безразлично соединяющееся, хотя и в разных специфически определённых количествах (Mengen) [важно, что дословно следовало бы перевести Mengen как "множества", то есть чего-то внешнего себе, но Столпнер-Розенталь, видимо, сочли более удобным перевести Mengen как количество с тем, чтобы не было диссонанса, портящего пару "количество-качество", хотя множество и не равно количеству – А. Л.]". На данном этапе важно уловить хотя бы столбовую мысль: количество, соотносясь в себе как множества, само-себя-полагает, само структурирует себя через вступающие в отношения изначально избирательные нейтральности. Начиная как нейтральности, они обретают себя в своём отрицательном единстве друг с другом – таково развёртывание в-себе и для-себя-бытие количественного, всеобщего неразличённого – уже имеются противостоящие ряды, задаётся структура. Выходит, что эта исключающая мера в своём для-себя-бытии, "полагает себя и как некоторое другое, чисто количественное отношение, и как такое другое отношение, которое в то же время есть другая мера; она определена как в себе самом специфирующее единство, которое в самом себе продуцирует отношения меры". Мера, иными словами, безразличных друг к другу количеств, становится их качественной основанием, основой их исключающего единства, и в то же время - результатом её; "мера, отталкиваясь от себя, определяет себя к другим, чисто количественно разным отношениям, которые образуют сродства и меры, перемежаясь с такими, которые остаются чисто количественными разностями", образуя, таким образом, "узловую линию мер на шкале "большего" и "меньшего". Итак: "Но возникает такая точка [в дальнейшем Гегель назовёт её окачествующей точкой – А. Л.] этого изменения количественного, в которой изменяется качество, определённое количество оказывается специфирующим, так что измененное отношение оказывается специфирующим...".
Это диалектическое отношение качества и количества Маркс с блеском вскрыл в "Капитале", обозначив товар как имманентно содержащий в себе как моменты, выступающие, но не реализующиеся, эквивалентную и относительную стоимости. Получается, что в таком развитии товар включает в себя обе формы собственности, воплощается в них, и в то же время – в сущности своей не присутствует ни в первой, ни во второй. Товар, таким образом, становится сущностью, самим отношением между относительной и эквивалентной стоимостями. В таком же диалектическом отношении находятся, скажем, слово и значение у Выготского, что и стало венцом его концепции мышления и речи.
Образование качества, таким образом, есть разрыв, но такой разрыв, после которого новое качество сохраняет связь с предыдущим, воспринимаемым им как количество: только потому, что оба тела – и человек, и бутылка воды – тверды, вопрос открывания бутылки становится вопросом количественного применения силы со стороны человека в одной плоскости. И в то же время этот разрыв образует такое качественное различие, в результате которого новое качество не может быть оторвано от собственного внутреннего отношения, не может быть объяснено за счёт предыдущего.Имеем логический ряд «жизнь, субъективность, мышление, понятие». Допустим, что под субъективностью понимается не та релятивистская мысль, где мышление, сознание, есть субъективно переживаемое явление. Против такой трактовки выступает употребление рядом с мышлением понятия, т.е., по Гегелю, «существенного общего», клеточки его Логики. Гегеля Деборин читал, и допустить такую трактовку можно, лишь допустив кретинизм её автора, что было бы слишком лёгким делом. Проблему, впрочем, это не снимает, но лишь ставит: хорошо, допустим, что субъективность здесь – способность индивида к субъективному отражению, апперцепции, представлении о себе самом. Логический ряд можно было бы разбить на два блока: жизнь и её частное проявление, субъективность и мышление с понятием. Однако если субъективность действительно является именно частным проявлением жизни, то, следовательно, первая к последней не сводится; хлеб есть еда, но не еда есть хлеб. В случае же с отношением понятие-мышление ряд строгий: понятие образует «клеточку» мышления, и мышление пронизывается понятием целиком. Таким образом, уже сам ряд или целый, или неудачно разбит на две части. К последнему подталкивает, в частности, то, что первые два слова в ряде Деборина носят явно онтологический оттенок, третье и четвёртое – гносеологический.
Но здесь пока ничего, кроме семантической придирки нет. Вопрос заключается в другом: можно ли артикулировать проблему субъективности в логическом ряде таких вполне себе объективных категорий, как мышление и понятие? Насколько в отношении к объективному мышлению свой смысл имеет субъективность? В отношении с объективным мышлением никакого значения субъективность не имеет: эта субъективность, человеческое отражение, возможна только на основе усвоения представлений и понятий, не принадлежащих отдельному человеку, присущих ему «вне зависимости от его произвола», целиком опосредует эту субъективность. Субъективность здесь растворяется в объективном мышлении, поскольку не существует вне объективно сущих категорий и понятий. В случае с жизнью и субъективностью такого сказать нельзя: в отношении к жизни вообще замечание об апперцепции – действительно важный момент. Но в рассмотренном как целое ряде «жизнь, субъективность, мышление, понятие», происходит смешение проблем: последовательно связанной цепи эти слова не образуют, иначе следовало бы написать «жизнь, субъективное отражение (а разве субъективное отражение предшествует объективному мышлению?), понятие, мышление». Да, субъективность за появлением жизни действительно следует, а вот мышление с понятием иерархического ряда не образуют. И да, из жизни вытекает субъективность; но как возможна субъективность в качестве предшествующего мышлению, если она сама существует только посредством объективных категорий?.. Словом, получается сама по себе несуразная логическая цепь, где, кроме того, неудачно в одном семантическом ряде поставлены мышление и субъективность.
И ещё. Эти не вполне корректно «собранные» – поскольку последние три в сущности не могут быть поставлены в последовательном ряде без проговаривания их отношения, иначе получается выше показанная несуразность – словечки образуют у Деборина якобы «необходимые ступени» в развитии единой субстанции. Шаг действительно хорош, потому что самая грубая опасность – представить возникновение трудящегося человека, а вместе с ним и мышления как случайность – уже миновала. Но остаётся другая проблема: метафора ступени предполагает прерывность; материя находится в этот исторический момент на одной ступени, завтра на другой, послезавтра на третьей. Здесь пройденные ступени существуют как односторонне определяющие, а не являются в гегелевском смысле основанием существующей на новой ступени материи, где результат неразрывно связан с основанием и влияет на него. Метафора ступеней предполагает одностороннюю связь, где мышление не находится в связи с материей, а проистекает от неё. Подчеркнув тот факт, что ступени эти проходились не случайно, Деборин не увидел взаимосвязи результата, мышления, с судьбой основания, материи.
Это диалектическое отношение качества и количества Маркс с блеском вскрыл в "Капитале", обозначив товар как имманентно содержащий в себе как моменты, выступающие, но не реализующиеся, эквивалентную и относительную стоимости. Получается, что в таком развитии товар включает в себя обе формы собственности, воплощается в них, и в то же время – в сущности своей не присутствует ни в первой, ни во второй. Товар, таким образом, становится сущностью, самим отношением между относительной и эквивалентной стоимостями. В таком же диалектическом отношении находятся, скажем, слово и значение у Выготского, что и стало венцом его концепции мышления и речи.
Образование качества, таким образом, есть разрыв, но такой разрыв, после которого новое качество сохраняет связь с предыдущим, воспринимаемым им как количество: только потому, что оба тела – и человек, и бутылка воды – тверды, вопрос открывания бутылки становится вопросом количественного применения силы со стороны человека в одной плоскости. И в то же время этот разрыв образует такое качественное различие, в результате которого новое качество не может быть оторвано от собственного внутреннего отношения, не может быть объяснено за счёт предыдущего.Имеем логический ряд «жизнь, субъективность, мышление, понятие». Допустим, что под субъективностью понимается не та релятивистская мысль, где мышление, сознание, есть субъективно переживаемое явление. Против такой трактовки выступает употребление рядом с мышлением понятия, т.е., по Гегелю, «существенного общего», клеточки его Логики. Гегеля Деборин читал, и допустить такую трактовку можно, лишь допустив кретинизм её автора, что было бы слишком лёгким делом. Проблему, впрочем, это не снимает, но лишь ставит: хорошо, допустим, что субъективность здесь – способность индивида к субъективному отражению, апперцепции, представлении о себе самом. Логический ряд можно было бы разбить на два блока: жизнь и её частное проявление, субъективность и мышление с понятием. Однако если субъективность действительно является именно частным проявлением жизни, то, следовательно, первая к последней не сводится; хлеб есть еда, но не еда есть хлеб. В случае же с отношением понятие-мышление ряд строгий: понятие образует «клеточку» мышления, и мышление пронизывается понятием целиком. Таким образом, уже сам ряд или целый, или неудачно разбит на две части. К последнему подталкивает, в частности, то, что первые два слова в ряде Деборина носят явно онтологический оттенок, третье и четвёртое – гносеологический.
Но здесь пока ничего, кроме семантической придирки нет. Вопрос заключается в другом: можно ли артикулировать проблему субъективности в логическом ряде таких вполне себе объективных категорий, как мышление и понятие? Насколько в отношении к объективному мышлению свой смысл имеет субъективность? В отношении с объективным мышлением никакого значения субъективность не имеет: эта субъективность, человеческое отражение, возможна только на основе усвоения представлений и понятий, не принадлежащих отдельному человеку, присущих ему «вне зависимости от его произвола», целиком опосредует эту субъективность. Субъективность здесь растворяется в объективном мышлении, поскольку не существует вне объективно сущих категорий и понятий. В случае с жизнью и субъективностью такого сказать нельзя: в отношении к жизни вообще замечание об апперцепции – действительно важный момент. Но в рассмотренном как целое ряде «жизнь, субъективность, мышление, понятие», происходит смешение проблем: последовательно связанной цепи эти слова не образуют, иначе следовало бы написать «жизнь, субъективное отражение (а разве субъективное отражение предшествует объективному мышлению?), понятие, мышление». Да, субъективность за появлением жизни действительно следует, а вот мышление с понятием иерархического ряда не образуют. И да, из жизни вытекает субъективность; но как возможна субъективность в качестве предшествующего мышлению, если она сама существует только посредством объективных категорий?.. Словом, получается сама по себе несуразная логическая цепь, где, кроме того, неудачно в одном семантическом ряде поставлены мышление и субъективность.
И ещё. Эти не вполне корректно «собранные» – поскольку последние три в сущности не могут быть поставлены в последовательном ряде без проговаривания их отношения, иначе получается выше показанная несуразность – словечки образуют у Деборина якобы «необходимые ступени» в развитии единой субстанции. Шаг действительно хорош, потому что самая грубая опасность – представить возникновение трудящегося человека, а вместе с ним и мышления как случайность – уже миновала. Но остаётся другая проблема: метафора ступени предполагает прерывность; материя находится в этот исторический момент на одной ступени, завтра на другой, послезавтра на третьей. Здесь пройденные ступени существуют как односторонне определяющие, а не являются в гегелевском смысле основанием существующей на новой ступени материи, где результат неразрывно связан с основанием и влияет на него. Метафора ступеней предполагает одностороннюю связь, где мышление не находится в связи с материей, а проистекает от неё. Подчеркнув тот факт, что ступени эти проходились не случайно, Деборин не увидел взаимосвязи результата, мышления, с судьбой основания, материи.
[1] Ленин В. И. ПСС, т. 29. С. 248.
[2] Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 3. С. 2.
[3] "При этом не ясно, что принадлежит существенному и что несущественному. Это различие создаётся каким-то внешним содержанием [Rücksicht], и потому одно и то же содержание следует рассматривать то как существенное, то как несущественное". Гегель Г. В. Ф. "Наука логики", кн. 2 (Учение о сущности), АСТ, 2018. С. 417.
[4] Marx K. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 189.
[5] Гегель Г. В. Ф., "Наука логики", кн. 1 (Учение о бытии), АСТ, 2018. С. 364.
[2] Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 3. С. 2.
[3] "При этом не ясно, что принадлежит существенному и что несущественному. Это различие создаётся каким-то внешним содержанием [Rücksicht], и потому одно и то же содержание следует рассматривать то как существенное, то как несущественное". Гегель Г. В. Ф. "Наука логики", кн. 2 (Учение о сущности), АСТ, 2018. С. 417.
[4] Marx K. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 189.
[5] Гегель Г. В. Ф., "Наука логики", кн. 1 (Учение о бытии), АСТ, 2018. С. 364.
[6] Ильенков Э. В. "Диалектика идеального"//Философия и культура, Издательство политической литературы, 1991. С. 236.
[7] Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм//Гегель Г. В. Ф., соч., т. 1.
[8] Ильенков Э. В. Логическое и историческое//Собр. соч., т. 2. С. 270.
[9] Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 3. С. 1-2.
[10] "Структура, продуктом которой является габитус, управляет практикой, но не механистически-детерминистским путём, а через принуждение и ограничение, изначально определённое его находчивостью [курсив мой - А. Л.]" (Бурдьё П., Практический смысл, 2001. С. 106).
[7] Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм//Гегель Г. В. Ф., соч., т. 1.
[8] Ильенков Э. В. Логическое и историческое//Собр. соч., т. 2. С. 270.
[9] Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 3. С. 1-2.
[10] "Структура, продуктом которой является габитус, управляет практикой, но не механистически-детерминистским путём, а через принуждение и ограничение, изначально определённое его находчивостью [курсив мой - А. Л.]" (Бурдьё П., Практический смысл, 2001. С. 106).
[11] Выготский Л. С. Анализ эстетической реакции. (Сборник трудов.) Научная редакция В. В. Иванова и И. В. Пешкова, М., 2001. С. 356.
[12] Ильенков Э. В. О "специфике искусства"//Искусство и коммунистический идеал, М., Искусство, 1984. С. 213-224. За более обстоятельными мыслями отсылаю к 3-му тому "Своеобразия эстетического" у Д.Лукача; в контексте повествования следует заметить только, что искусство, в сущности, образует наполнение не только мышления, но и субмыслительных явлений, таких как диалектическое отношение единичного и всеобщего: "Это не только относительное обобщение, не просто путь от единичного к всеобщему..., но необходимое – возникшее в силу самой сути объективной реальности и навязанное ею мышлению – опосредование между единичным и всеобщим" (Лукач Д. Своеобразие эстетического, т. 3., М., "Прогресс", 1986. С. 174.).
[13] Фейербах Л., Сущность христианства, гл. 10.
[14] Лузин А. В. «Эпидемия деструктивности и Осень капитализма», 10. 10. 2020. URL: https://vk.com/@revalt1936-sumerki-plastmassovogo-mira
[15] Ильенков Э. В. Диалектическая логика, 1984. С. 167.
[12] Ильенков Э. В. О "специфике искусства"//Искусство и коммунистический идеал, М., Искусство, 1984. С. 213-224. За более обстоятельными мыслями отсылаю к 3-му тому "Своеобразия эстетического" у Д.Лукача; в контексте повествования следует заметить только, что искусство, в сущности, образует наполнение не только мышления, но и субмыслительных явлений, таких как диалектическое отношение единичного и всеобщего: "Это не только относительное обобщение, не просто путь от единичного к всеобщему..., но необходимое – возникшее в силу самой сути объективной реальности и навязанное ею мышлению – опосредование между единичным и всеобщим" (Лукач Д. Своеобразие эстетического, т. 3., М., "Прогресс", 1986. С. 174.).
[13] Фейербах Л., Сущность христианства, гл. 10.
[14] Лузин А. В. «Эпидемия деструктивности и Осень капитализма», 10. 10. 2020. URL: https://vk.com/@revalt1936-sumerki-plastmassovogo-mira
[15] Ильенков Э. В. Диалектическая логика, 1984. С. 167.
* "Вюрцбургский" этап как полный крах не-диалектико-материалистического метода кончился неосознанным приговором школе, произнесённым устами её лидера Кюльпе: «Мы не только скажем: "мысли, значит существую", – но также: "Мир существует, как мы его устанавливаем и определяем"».
** Тутубалин играется с идеей "живого единства", родня её с идеей "unauflösliches" (нерасщепимого, неразложимого) у махистов. Здесь ярко проступает что угодно, только не его диалектический материализм. Отождествить бытие-для-себя с "нерастворимым", а по сути сводимым, – это надо постараться или не понять Гегеля, или презреть Маркса!
*** А. Н. Леонтьев: "Такой подход к проблеме соотношения психического и физического рядов порождает представление о том, что психические явления сами по себе не имеют никакого значения. Это не феномены, а эпифеномены, то есть побочные явления, сопровождающие объективные процессы и так же мало вмешивающиеся в их ход, как, например, тень, отбрасываемая пешеходом, влияет на движение его ног".
**** Выражение Ильенкова из "Диалектики абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении".
***** Пусть хорошенько подумает о своей мысли тот, кто видит здесь материалистическую интерпретацию Паскаля.
****** целиком, в целом (фр.)
******* "Здесь, Родос, здесь прыгай!"
** Тутубалин играется с идеей "живого единства", родня её с идеей "unauflösliches" (нерасщепимого, неразложимого) у махистов. Здесь ярко проступает что угодно, только не его диалектический материализм. Отождествить бытие-для-себя с "нерастворимым", а по сути сводимым, – это надо постараться или не понять Гегеля, или презреть Маркса!
*** А. Н. Леонтьев: "Такой подход к проблеме соотношения психического и физического рядов порождает представление о том, что психические явления сами по себе не имеют никакого значения. Это не феномены, а эпифеномены, то есть побочные явления, сопровождающие объективные процессы и так же мало вмешивающиеся в их ход, как, например, тень, отбрасываемая пешеходом, влияет на движение его ног".
**** Выражение Ильенкова из "Диалектики абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении".
***** Пусть хорошенько подумает о своей мысли тот, кто видит здесь материалистическую интерпретацию Паскаля.
****** целиком, в целом (фр.)
******* "Здесь, Родос, здесь прыгай!"
Да здравствует коммуна!

