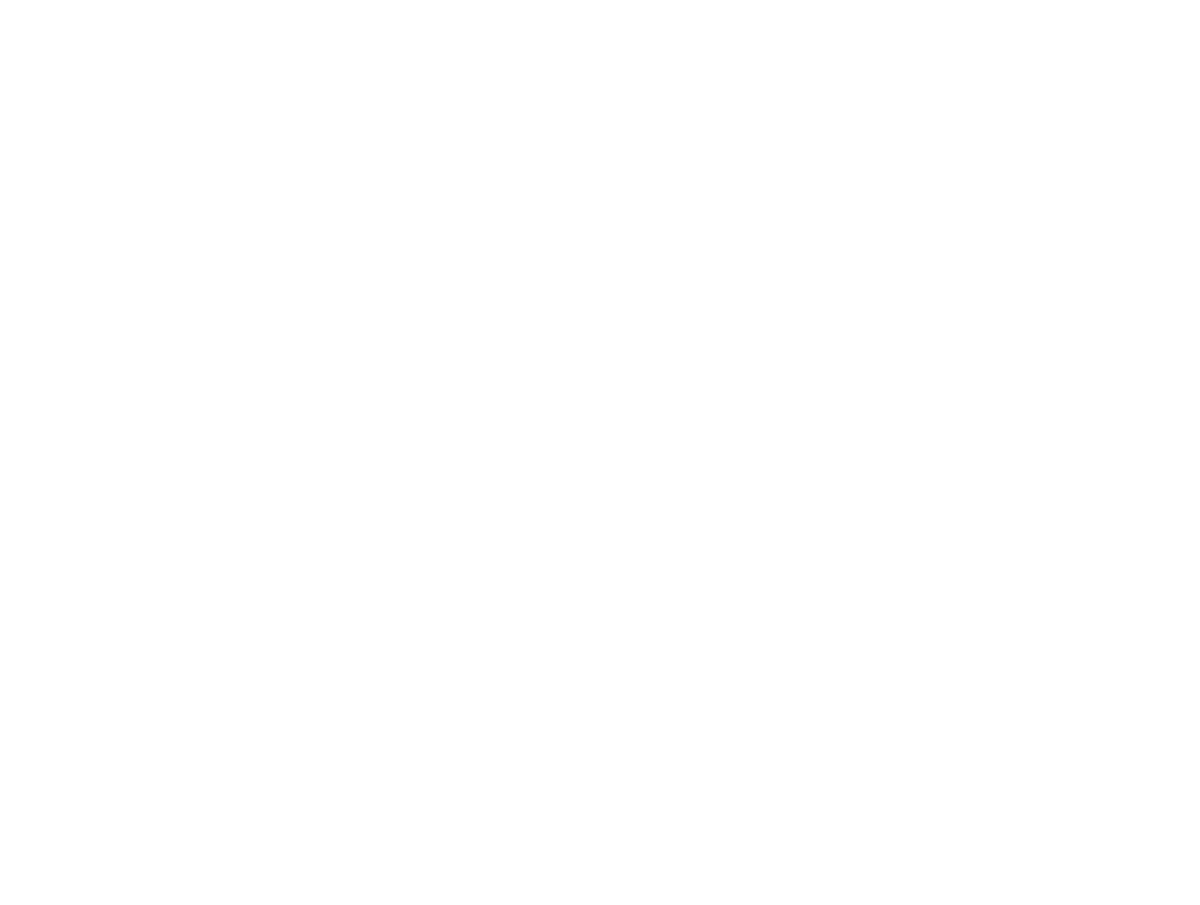У престола Бога, в утро райских нег, все мы видеть станем красный, красный снег!
Россия, которую мы потеряем
Камиль Верньо
Преемственность России сегодняшней от России вчерашней очевидна. Но что нам досталось от той России, которая была позавчера?
Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.
Многие люди, если не вообще все, кто был причастен к подданству Российской Империи, думали в своё время, что стоит только царю-тряпке и стаду его прихлебателей убраться вон и сдохнуть в канавах, петлях и прочих отстойниках вырожденческой аристократии, типа эмигрантских кабаков, как жизнь в одночасье переменится: русский офицер из бесчестной скотины, в бесчестье павшей ниже достоинства последнего алкаша, превратится тотчас в доблестного защитника отечества (для ускорения метаморфозы был учреждён особый праздник); русский бюрократ из облезлой лисы и беспринципной крысы станет авангардным народным представителем; свиноподобный националист станет если не членом РКП, то хотя бы комсомольским секретарём и так далее.
Нет особой нужды спустя уже почти-что сто лет указывать, что на следующий же год после революции вчерашние мечтатели, оказавшиеся в именитых креслах и экспроприировавшие на собственные нужды особняки и поместья бесчисленных подонков царской власти, стали пить, кутить и обирать во благо этой прогрессивной цели русский плебс, радостно подыхавший за обещания, обходившиеся своим авторам в столь ничтожный счёт, как необходимость после смерти отчитаться перед историей за все прижизненные враки.
Мотив перерождения большевистской власти в "новый царизм" столь же стар, сколь и само выражение "большевистская власть", - об этой угрозе ещё до первой русской революции говорил Аксельрод. А уж после претворения в жизнь "новый царизм" и вовсе был избит всеми, кому не показалось чрезмерным плевать в труп мировой революции: о "трагизме" произошедшего мимо всяких Оруэллов и примкнувших к ним буржуйствующих эсеров стенал даже собака-Троцкий. Но было ли произошедшее "перерождение" трагедией и, собственно, было ли оно "перерождением"?
Нет особой нужды спустя уже почти-что сто лет указывать, что на следующий же год после революции вчерашние мечтатели, оказавшиеся в именитых креслах и экспроприировавшие на собственные нужды особняки и поместья бесчисленных подонков царской власти, стали пить, кутить и обирать во благо этой прогрессивной цели русский плебс, радостно подыхавший за обещания, обходившиеся своим авторам в столь ничтожный счёт, как необходимость после смерти отчитаться перед историей за все прижизненные враки.
Мотив перерождения большевистской власти в "новый царизм" столь же стар, сколь и само выражение "большевистская власть", - об этой угрозе ещё до первой русской революции говорил Аксельрод. А уж после претворения в жизнь "новый царизм" и вовсе был избит всеми, кому не показалось чрезмерным плевать в труп мировой революции: о "трагизме" произошедшего мимо всяких Оруэллов и примкнувших к ним буржуйствующих эсеров стенал даже собака-Троцкий. Но было ли произошедшее "перерождение" трагедией и, собственно, было ли оно "перерождением"?
Дебор доказал, что перерождения не было и не могло быть, ведь Ленин, - плоть от плоти Каутский, - изначально, с первой же секунды своей ревизии марксизма был обыкновенным буржуазным реакционером (см. напр. 103 тезис "Общества спектакля": "Ленин всегда оказывался прав по отношению к своим противникам, потому что отстаивал давно уже сделанный выбор, а именно, власть абсолютного меньшинства"). Оставим рассуждение о том, был ли Ленин в действительности, как выразился Гишечка, реакционером, или может быть он был "буржуазным прогрессистом", - путь это выясняют современные потомки разночинствующего племени, о которых мы ещё скажем пару ласковых.
Теперь к трагедии. Конечно, для фантазёров всегда печально, когда выясняется, что сон был, вот так сюрприз, во сне, что реальность ничуть не переменилась под воздействием ночных грёз или дневной дрёмы, что воздушные замки Козетты на самом деле есть снующие по комнатам облачка пыли и т.д. Но кто будет жалеть фантазёров? Неизменность русского общества, всего-навсего избавившегося от отягощения сословностью и излишней в двадцатом веке спайкой церкви и государства (впрочем, церковь тотчас вернулась в лице партии, честно дублирующей церковную иерархию вплоть до синодальных съездов и воскресных партсобраний), была предсказуема ещё до своего фактического закрепления, ведь революции не изменили до сих пор ни одного общественного сознания.
Теперь к трагедии. Конечно, для фантазёров всегда печально, когда выясняется, что сон был, вот так сюрприз, во сне, что реальность ничуть не переменилась под воздействием ночных грёз или дневной дрёмы, что воздушные замки Козетты на самом деле есть снующие по комнатам облачка пыли и т.д. Но кто будет жалеть фантазёров? Неизменность русского общества, всего-навсего избавившегося от отягощения сословностью и излишней в двадцатом веке спайкой церкви и государства (впрочем, церковь тотчас вернулась в лице партии, честно дублирующей церковную иерархию вплоть до синодальных съездов и воскресных партсобраний), была предсказуема ещё до своего фактического закрепления, ведь революции не изменили до сих пор ни одного общественного сознания.

Большевистская Козетта
мечтает о воздушном заводе и ангелах-чекистах
Возьмём столь попсовый пример, как пример французский, - ведь иначе нам придётся брать в расчёт, что средний читатель достаточно умён, чтобы не мерить все революции одной и той же линейкой, тогда как, увы, средний читатель левых взглядов на такое пока что не способен, тем паче в России. Так вот, известно, хотя бы из самого фактического поведения второго сословия, что французская аристократия конца восьдесятых годов восемнадцатого века уже на протяжении как минимум целого столетия мыслила и жила в категориях исключительно буржуазных, поскольку само её бытие ничем не отличалось от бытия буржуазного, исключая известное уклонение от налогов и жалкие аристократические понты. Это обеспечило неизбежность "реставрации" ещё в тот день, когда были созваны Генеральные Штаты, ведь своей революцией французы могли только законодательно закрепить только то, что уже произошло на самом деле, а затем год за годом вычеркивать излишне громкие фразочки из составленного в один прекрасный день основного закона. Большинство дворян без особого сопротивления отказалось от дворянства и только подчеркнуло тем самым свою буржуазность, - точно так же вели себя министры-капиталисты нашего русского Временного Правительства. Конечно, на какой-то момент этих господ погнали в шею наиболее крикливые из журналистов и тех представителей третьего сословия, которым не давала покоя слава сословия первого (в особенности здесь отличились якобинцы, в n-нный момент учредившие из ревности даже собственную поповщину, хоть и недолговечную). Но вскоре оказалось, что в излишествах революции нет смысла, - вполне банальный факт, ненавидимый лишь романтизирующими Робеспьера и Ко. инфантилистами. Что было дальше мы все знаем.
Как и во Франции, в России дворянство давно разложилось в буржуазию, но пошло не в неё одну. Почти два столетия русский дворянин шёл либо в помещики, либо в бюрократы (так же имело место быть и офицерство, но русский офицер и по уму, и по обязанностям столь же мало отличен от канцелярской крысы, что отделять офицера от бюрократа нет никакого смысла ни исторически, ни практически для нашего момента). И если помещик впоследствии становился буржуем, то бюрократ же оставался всегда бюрократом, изменяясь исключительно в сознании: сперва он был консерватор, затем либерал, а после и вовсе, как малыш Плеханов, становился социалистом. Сознательная эта его метаморфоза происходила в зависимости от превращения помещика в буржуя, то бишь по мере роста российского капитализма.
Как и во Франции, в России дворянство давно разложилось в буржуазию, но пошло не в неё одну. Почти два столетия русский дворянин шёл либо в помещики, либо в бюрократы (так же имело место быть и офицерство, но русский офицер и по уму, и по обязанностям столь же мало отличен от канцелярской крысы, что отделять офицера от бюрократа нет никакого смысла ни исторически, ни практически для нашего момента). И если помещик впоследствии становился буржуем, то бюрократ же оставался всегда бюрократом, изменяясь исключительно в сознании: сперва он был консерватор, затем либерал, а после и вовсе, как малыш Плеханов, становился социалистом. Сознательная эта его метаморфоза происходила в зависимости от превращения помещика в буржуя, то бишь по мере роста российского капитализма.
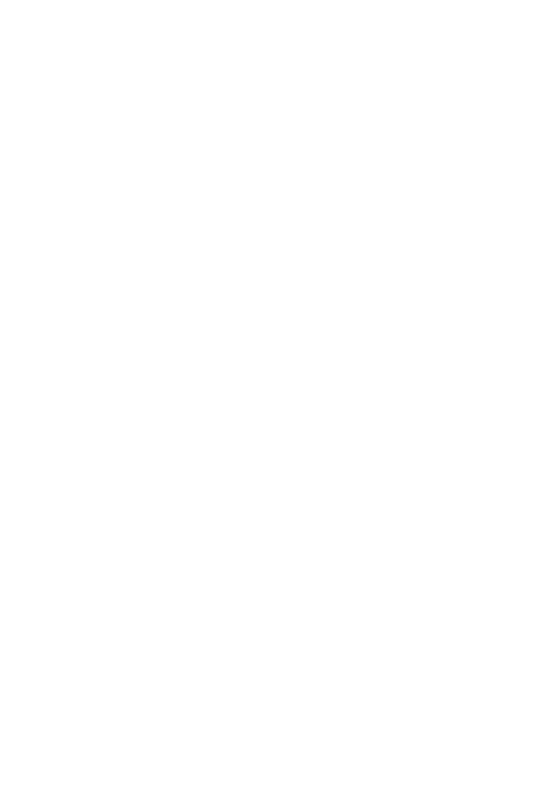
Пётр Струве
Лучший пример политической дегенерации
Так, молодой и наиболее сообразительный (а возраст, как условие материально-опытное, прямо определяет сообразительность, как категорию сознательную) бюрократ и разночинец шёл в социалисты, исходя из понимания неизбежности свержения самодержавия низшими массами; более старый и оттого более глупый оставался народником или, если имел известный в обществе вес, либералом (поскольку во все времена чтобы быть оным надо было жить лучше прочих хотя бы на одну голову, а желательно и на все десять, - это в наш двадцать первый век нагляднее всего доказывает бесящаяся с жиру столичная общественность и её провинциальные поклонники из числа буржуйских подонков, чьё племя наиболее часто поддерживает сегодня либеральную и националистическую оппозицию); совсем непробиваемый дурак или, быть может, крайне высокий чиновник или офицер, типа Столыпина-Колчака-Корнилова, держался за царизм всеми силами, поскольку только в его условиях мог быть хоть сколь-нибудь значим в своих глазах, а важнее всего сыт, обут и обезопасен.
Как видно, сама история подталкивала всякого стороннего наблюдателя русской революции к выводу о том, что в сущности перемены не должны быть столь велики, сколь обещают в поповском угаре большевики, либералы и даже все их враги, - каждый революционер прежде всего поп (а каждый поп прежде всего лжец) и уже после этого деятель. Это не значит, впрочем, что революция и вовсе не была нужна, - революция была жизненно необходима для России, чему ещё до её происшествия было дано немало толковых обоснований (лучшие из которых, вне всяких сомнений, это ленинская книжка "Развитие капитализма в России" и струвевское сочинение "Patriotica", за пару страниц которой уже хочется заколоть штыком и автора, и его партию, и весь тот высокодержавный скот, которому Пётр Бернгардович поёт самые неприлично-слащавые гимны), поэтому здесь их приводить смысла нет почти-что никакого, учитывая, что и сама история не терпит сослагательного наклонения.
Итак, революция свершилась. Молодой и умный бюрократ тотчас стал комиссаром, плешивый бюрократ-либерал либо поворчал для приличия и сдался советам на поруки, либо бежал за границу, а консервативное ничтожество полегло под своей или чужой пулей, опосля чего было благополучно забыто. Но традиция (речь здесь идёт, разумеется, не обо всякой русской традиции, но именно о традиции светской и бюрократической жизни русского человека), которая, как хорошо разъяснил Богданов, есть ничто иное, как многолетняя привычка (см. тезис I главы II работы "Новый мир"), не имела никакой почвы для вырождения в новых условиях во что-то иное, наоборот, она имела все условия для нового своего упрочения. Избавившись от помещиков, бюрократия заимела для своих нужд целое государство; избавившись от попов, бюрократия взяла в руки церковное творчество, - об этом так же сказано достаточно даже на МАРТе (см. напр. книжку Орлова "Теория государственного капитализма" или статьи Миллера "Препарируя труп" и "Сверхбуржуа"), не говоря уже вообще об отечественной публицистике и историографии последних двадцати пяти-ста лет.
На протяжении всей советской истории бюрократия и офицерство раз за разом воспроизводили имперскую традицию своих предшественников: чопорность и особая отчуждённость "управленцев", публично-показушное и по-бытовому жестокое бытие военных чинов, идиотская изощерённость охранки (столь хорошо высмеянная как в "Похищенном письме" По, так и в советском народном анекдотическом творчестве), безалаберность и глубокое бытовое мещанство интеллигенции и многие прочие признаки истинной русскости, то есть обыкновенной мещанской буржуазности, называемой здесь русскостью не чтобы подчеркнуть какую-то особенность, но только ради указания на прямую приемственность советского мещанского сознания от имперского.
Итак, революция свершилась. Молодой и умный бюрократ тотчас стал комиссаром, плешивый бюрократ-либерал либо поворчал для приличия и сдался советам на поруки, либо бежал за границу, а консервативное ничтожество полегло под своей или чужой пулей, опосля чего было благополучно забыто. Но традиция (речь здесь идёт, разумеется, не обо всякой русской традиции, но именно о традиции светской и бюрократической жизни русского человека), которая, как хорошо разъяснил Богданов, есть ничто иное, как многолетняя привычка (см. тезис I главы II работы "Новый мир"), не имела никакой почвы для вырождения в новых условиях во что-то иное, наоборот, она имела все условия для нового своего упрочения. Избавившись от помещиков, бюрократия заимела для своих нужд целое государство; избавившись от попов, бюрократия взяла в руки церковное творчество, - об этом так же сказано достаточно даже на МАРТе (см. напр. книжку Орлова "Теория государственного капитализма" или статьи Миллера "Препарируя труп" и "Сверхбуржуа"), не говоря уже вообще об отечественной публицистике и историографии последних двадцати пяти-ста лет.
На протяжении всей советской истории бюрократия и офицерство раз за разом воспроизводили имперскую традицию своих предшественников: чопорность и особая отчуждённость "управленцев", публично-показушное и по-бытовому жестокое бытие военных чинов, идиотская изощерённость охранки (столь хорошо высмеянная как в "Похищенном письме" По, так и в советском народном анекдотическом творчестве), безалаберность и глубокое бытовое мещанство интеллигенции и многие прочие признаки истинной русскости, то есть обыкновенной мещанской буржуазности, называемой здесь русскостью не чтобы подчеркнуть какую-то особенность, но только ради указания на прямую приемственность советского мещанского сознания от имперского.
Это же сознание в качестве ответной реакции на материальную, бытийную власть бюрократического совокупного капиталиста воспроизвело прежние модели "революционеров", то есть советских социалистов, типа Тарасова, Летова и Кагарлицкого, советских либералов, типа Солженицына, Горбачёва и Гайдара, и, конечно же, советских консерваторов, типа Суслова, Андропова и вообще любого члена брежневского политбюро. В известный момент Советскому Союзу было положено стереться с лица Земли, однако, падение бюрократии вновь оказалось мнимым, - об этом в наш путинский век написано, пожалуй, даже больше, чем обо всём, что обсуждалось нами выше, вместе взятом.

Брежневские бюрократы
отличались от царских только длиной пиджаков
Стоит ли удивляться, что и современная нам российская действительность, не избавившаяся за сто лет ни от бюрократов, ни от офицеров, воспроизводит прежние модели сознания и поведения, описанные ещё Гоголем и Щедриным? Однако это воспроизводство мимо прочего подчиняется известной максиме Маркса о повторении истории, более того, оно, следуя постмодернистской доктрине, есть a priori воспроизводство увядающее, декадентское. Это же закрепляет за ним и спектакль, утверждающий всё прежде переживаемое непосредственно оттеснённым в представление. Именно поэтому заместо Победоносцева мы имеем Володина, заместо Витте Суркова, а заместо Ленина Бийца.
La théorie révolutionnaire est maintenant ennemie de toute idéologie révolutionnaire, et elle sait qu'elle l'es. Чтобы выйти за рамки русской традиции мы должны отряхнуть с ног не только её прах, но и прах всей мировой истории.
И будь мы прокляты, если у нас этого не получится.
И будь мы прокляты, если у нас этого не получится.